Крестьянство
КРЕСТЬЯНСТВО (крестьянин, от древнерусского «христианин», «человек»; заимствовано из греческого χριστιανός), социальный слой (класс), занятый производством сельскохозяйственной продукции и, как правило, связанными с ним промыслами, и проживающий в деревне; основной производящий класс в аграрном обществе; сословие. Трактовка понятия «крестьянство» в разные исторические периоды и в различных странах менялась, что нашло отражение в историографии.
Крестьянство в античном мире. По отношению к населению древних государств, занятому в сельскохозяйственном производстве, неоднородному по происхождению и социальному положению, в источниках и историографической литературе используются разные общие термины (земледельцы, общинники, сельское население) или специальные термины, характерные для различных стран и периодов их истории.
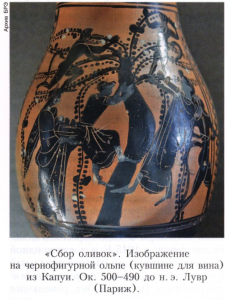 В полисах Древней Греции статус гражданина был тесно связан с правом на землевладение, в силу чего крестьянский труд пользовался уважением в обществе. В условиях преобладания мелкой и средней земельной собственности в 5-4 века до нашей эры применение рабского труда в сельском хозяйстве было ограничено. В то же время в некоторых полисах существовали категории зависимого населения, занимавшегося преимущественно крестьянским трудом и обязанного отдавать часть произведённой продукции полисам (илоты в Спарте, пенесты в Фессалии, мариандины в Гераклее Понтийской). В эпоху эллинизма (в государствах Птолемеев, Селевкидов и др.) значительная часть местного крестьянского населения (царские земледельцы), лишённая собственных земельных участков, а иногда и средств производства (в Египте), оказалась в сильной зависимости от центральной власти.
В полисах Древней Греции статус гражданина был тесно связан с правом на землевладение, в силу чего крестьянский труд пользовался уважением в обществе. В условиях преобладания мелкой и средней земельной собственности в 5-4 века до нашей эры применение рабского труда в сельском хозяйстве было ограничено. В то же время в некоторых полисах существовали категории зависимого населения, занимавшегося преимущественно крестьянским трудом и обязанного отдавать часть произведённой продукции полисам (илоты в Спарте, пенесты в Фессалии, мариандины в Гераклее Понтийской). В эпоху эллинизма (в государствах Птолемеев, Селевкидов и др.) значительная часть местного крестьянского населения (царские земледельцы), лишённая собственных земельных участков, а иногда и средств производства (в Египте), оказалась в сильной зависимости от центральной власти.
Реклама
В Древнем Риме при первых царях, в так называемый царский период (когда основным занятием было земледелие), автохтонные патриции, или римский народ (Populus Romanus), составляли крестьянство и одновременно воинство. Ряды свободных земледельцев расширились с середины 7 века до нашей эры за счёт плебеев. При Сервии Туллии плебс, включая сельский, наравне с патрициями обрёл статус римских граждан (cives). В период Ранней республики в процессе образования римского полиса (civitas) и развития социальной дифференциации плебс входил в римскую гражданскую общину и стал наиболее многочисленным, но не полноправным классом-сословием.
Сельский плебс представлял собой свободных мелких производителей материальных благ и вместе с тем мелких собственников. Неполноправное положение сельского плебса обусловило его политическую активность в борьбе за свои права с патрициями. Из сельских плебеев комплектовались колонисты, с развитием рабовладельческих отношений в период Поздней республики крестьянский труд стал также уделом фактически бесправной массы рабов (familia rustica). В состав соседских крестьянских общин входили вольноотпущенники, а также свободные арендаторы земли (колоны) из числа граждан и союзников. Они из-за долгов постепенно превращались в зависимое от крупных земельных собственников население и в один из источников колонатных отношений (смотри в статье Колонат). Ветеранское землевладение в известной мере укрепляло в период Поздней республики крестьян, фермеров, общины. Однако товарность рабовладельческой экономики обусловливала дифференциацию сельских тружеников, в результате которой в эпоху Империи увеличивались ряды несостоятельных должников, аддиктов, прекаристов, арендаторов, батраков и др.
 Бесправной частью населения в восточных провинциях империи становились члены свободных и зависимых сельских общин, а в североафриканских (особенно в императорских имениях) - зависимые общинники, тоже составлявшие источник колонатных отношений. Начиная со времени правления Марка Аврелия из приграничных варваров (на Дунае) формировался слой крестьян-воинов, не включённый в римское гражданство. Они защищали за плату (в виде земли) римские рубежи, что тоже являлось источником колонатных отношений.
Бесправной частью населения в восточных провинциях империи становились члены свободных и зависимых сельских общин, а в североафриканских (особенно в императорских имениях) - зависимые общинники, тоже составлявшие источник колонатных отношений. Начиная со времени правления Марка Аврелия из приграничных варваров (на Дунае) формировался слой крестьян-воинов, не включённый в римское гражданство. Они защищали за плату (в виде земли) римские рубежи, что тоже являлось источником колонатных отношений.
И. Л. Маяк, А. В. Стрелков.
Крестьянство в Византии. Кризис 4-5 веков на востоке Римской империи был менее тяжёлым, чем на западе. Здесь меньше было развито рабство и шире слой свободного крестьянства, объединённого в соседские общины. Частная собственность на пахотную землю сочеталась в них с коллективным владением угодьями.
В эпоху варварских нашествий конца 6-7 веков значительная часть земель империи, особенно на Балканах, была заселена славянами и болгарами. Крупные имения сохранились спорадически - они принадлежали в основном короне, Церкви и монастырям. Мелкое крестьянское землевладение стало в 7-8 века основной формой земельной собственности и сельскохозяйственного производства. Местная соседская община укрепилась под влиянием архаичного социального строя новых поселенцев.
Наиболее важные сведения о жизни византийской деревни этой эпохи содержит памятник начала 8 века - Земледельческий закон.
Подобно западным варварским правдам, он был записью обычного права в Византии - с учётом и под влиянием норм римского права. Текст Земледельческого закона свидетельствует о том, что соседская община переживала период интенсивной имущественной дифференциации. К середине 9 века был преодолён кризис, вызванный упадком экономики и варварскими нашествиями, но ускорились разложение общины и процесс обезземеливания части общинников.
Социальное положение крестьянина зависело от его прав на обрабатываемую им землю. Свободные собственники своих участков (их размер редко превышал 3 га) платили налоги в казну и несли воинскую повинность. Строго соблюдался древний принцип «солидарной ответственности» общин и соседей перед фиском за уплату налогов за разорившихся поселян. Помимо круговой поруки, всё более губительно (в условиях почти непрерывных войн, которые вела Византия) отражалась на состоянии крестьянского хозяйства военная служба в фемном ополчении.
Росло число зависимых крестьян. Важнейшей среди них в 10-12 века стала категория париков (присельников). Утратив собственную землю, они селились в имении крупного землевладельца, получив от него участок и уплачивая ему ренту частью урожая, деньгами или отработками на господском домене. Рента более чем вдвое превосходила размеры налога со свободного крестьянина. Если же господин получал от императора освобождение своего имения от налогов, он приобретал и право на присвоение податей, вносимых ранее его париками государству. Казённый налог становился также по социальному содержанию феодальной рентой.
Византия не знала крепостничества в его классической форме: согласно действовавшему здесь римскому праву, неправоспособными жителями Византии считались только рабы. Однако юридически свободный парик, оказавшись в сфере частного права, не был полностью свободен и от личной зависимости от господина. Он мог уйти от господина (в канун зимы), но, снова став безземельным, редко обретал хозяйственную самостоятельность.
В ходе восстановления власти империи на территориях, утраченных в период нашествия варваров, императоры утвердили право собственности казны на земли, не входившие в состав общинных и крупных частных имений. Быстрое распространение парикии на рубеже 9-10 веков привело к сокращению налоговых взносов в казну, к падению численности и боеспособности ополчения. Земельный фонд общины таял, слабели узы крестьянской солидарности. Императоры Македонской династии в течение столетия (с 920-х до 1020-х годов) издали серию законов, пытаясь помешать динатам захватывать земли сельских общин. Крестьяне получали право на преимущественную покупку земли односельчан, а затем и земли динатов. Крестьянскую землю, проданную динатам менее 30 лет назад, безвозмездно возвращали прежнему собственнику. Участки стратиотов (военнообязанных крестьян) были объявлены неотчуждаемыми. В случае длительного пребывания земельного участка в запустении фиск конфисковывал его в казну.
Контролируя рост крупного землевладения, императоры устанавливали для вотчинников право на приселение в своих имениях лишь фиксированного числа безземельных крестьян, не являвшихся налогоплательщиками казны. «Антидинатские» новеллы, несомненно, замедлили процесс формирования крупного частного землевладения, но они были неспособны его остановить. В конечном счёте, они содействовали умножению имений императора и ведомств аппарата центральной власти, в основе которых также лежал труд париков. Императоры раздаривали бывшие крестьянские земли своим знатным сторонникам или жаловали их в держание от короны (в пронию) с условием несения военной службы. На первых порах пронии представляли собой дарование прав на присвоение налоговых сумм с того или иного податного округа. В 11-12 века они предоставлялись пожизненно. Однако всё чаще получателю пронии давалось одновременно и освобождение от многих (или важнейших) казённых налогов. В результате пронии быстро приобретали статус наследственных владений. К 12 веку они практически не отличались от родовых имений знати, а свободные налогоплательщики казны на земле проний - от париков. Большинство византийских крестьян оказалось в феодальной зависимости.
С конца 11 века до падения империи в её аграрном хозяйстве появились две противоположные тенденции: происходил подъём сельскохозяйственного производства (это время считают «эпохой экономической экспансии») и одновременно упадок мелкого крестьянского землевладения. Община была подчинена и поглощена вотчиной, её наличие очевидно и в поздней Византии. Ускорилось сближение социальной структуры византийского общества с западноевропейской.
В 13-14 века сельское (в основном вотчинное) хозяйство продолжало находиться на подъёме, стимулируемое высоким спросом итальянских республик на сельскохозяйственную продукцию и увеличением числа свободных рабочих рук в результате бегства теснимого османами населения из восточных провинций. Расширялась домениальная запашка и сокращались размеры пахотных участков париков. Их зависимость от собственников земли ещё более возросла. Вотчинники стали шире практиковать свободную аренду. Возникли особые формы субаренды, обнаружившие тенденцию к развитию более прогрессивной организации сельскохозяйственного производства, связанные с денежными затратами крупных арендаторов на ирригацию, организацию переработки продуктов сельского хозяйства. Впервые в Византии появились крупные имения, обладавшие широкими льготами и охватывавшие огромные массивы земель с многоотраслевым земледельческим и скотоводческим хозяйством. Однако обозначившийся прогресс в жизни византийского села был прерван османским завоеванием.
Г. Г. Литаврин.
Крестьянство в Западной Европе в средние века и раннее Новое время.
Под понятие «средневековое крестьянство» подпадают разные категории сельского населения: от свободных общинников разлагавшегося родоплеменного общества до испомещённых на землю рабов и малоземельных крестьян позднего Средневековья. Наиболее характерна для средних веков фигура феодально-зависимого крестьянина (смотри в статье Феодализм), являвшегося наследственным держателем возделываемой им земли и собственником остальных средств производства: семян, рабочего скота, орудий труда. Будучи самостоятельно хозяйствующим субъектом и организатором производства, он вынужден (в результате внеэкономического принуждения) отдавать собственнику земли – сеньору - некоторую часть произведённых продуктов. Общественное положение крестьянина определялось той или иной формой (или формами) зависимости от сеньора и сословным неравноправием. Крестьянство - низшее сословие феодального общества, однако статус его членов был заметно выше статуса стоявших вне сословий, например, работников по найму.
Средневековое крестьянство возникло в результате взаимодействия более ранних обществ: с одной стороны, посаженные на землю рабы и вольноотпущенники, колоны, прекаристы, другие зависимые категории сельского населения Римской империи, свободные земледельцы полисного типа, объединённые в общины земледельцев и скотоводов из числа покорённых римлянами иберов, кельтов, бриттов, иллирийцев и других народов, не знавших полисного строя, с другой - свободные общинники и зависимые от них люди (рабы, литы) из числа варварских народов (прежде всего германцев и славян), обосновавшихся на территории империи или за её пределами в ходе Великого переселения народов. Большую роль в формировании средневекового крестьянства сыграло закабаление покорённых народов (бриттов - англосаксами, полабских и поморских славян, позднее прибалтов - немцами и т.д.).
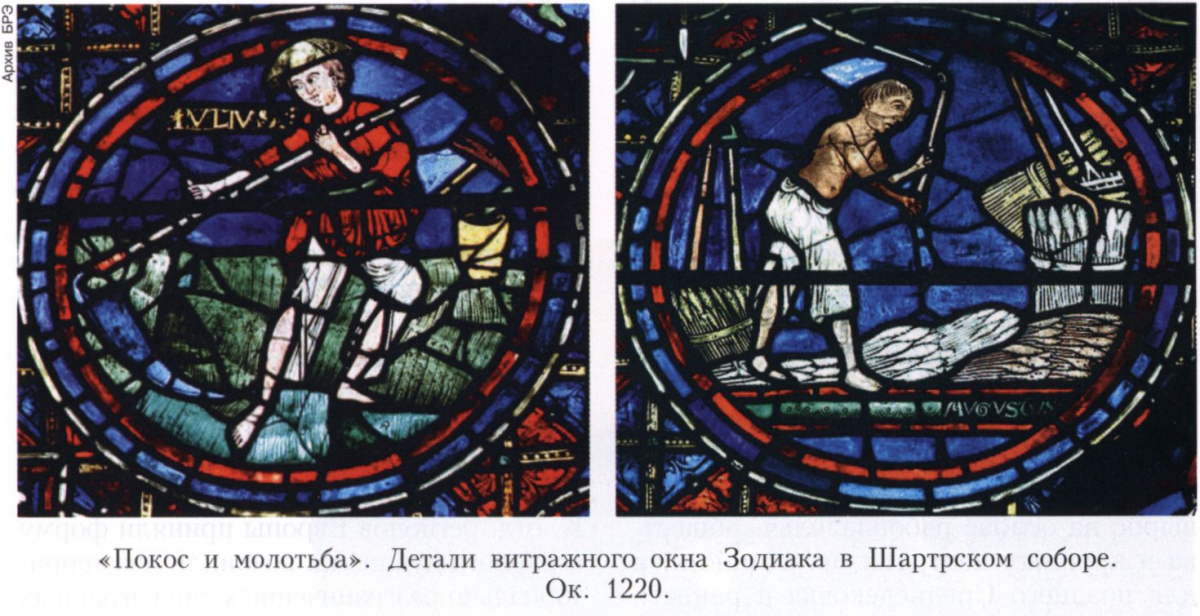 Вовлечение свободных общинников в феодальную зависимость обычно происходило путём передачи государством доли своих полномочий частным лицам из числа элиты, реже - в результате закабаления отдельных общинников. Этот процесс неотделим от процесса разложения соседской общины и становления относительно свободной формы семейного имущества - аллода. Однако с утратой собственности на землю крестьяне оставались наследственными держателями и пользователями своих наделов. Одним из следствий этого процесса было превращение некогда полноправных людей (не только земледельцев, но и воинов, членов народного собрания и судебных заседателей) в сословную группу, занятую исключительно сельскохозяйственным трудом; другое следствие - возникновение, взамен отдельно стоявших хуторов, деревни - кучевого поселения с устойчивыми аграрными распорядками и иными обычаями.
Вовлечение свободных общинников в феодальную зависимость обычно происходило путём передачи государством доли своих полномочий частным лицам из числа элиты, реже - в результате закабаления отдельных общинников. Этот процесс неотделим от процесса разложения соседской общины и становления относительно свободной формы семейного имущества - аллода. Однако с утратой собственности на землю крестьяне оставались наследственными держателями и пользователями своих наделов. Одним из следствий этого процесса было превращение некогда полноправных людей (не только земледельцев, но и воинов, членов народного собрания и судебных заседателей) в сословную группу, занятую исключительно сельскохозяйственным трудом; другое следствие - возникновение, взамен отдельно стоявших хуторов, деревни - кучевого поселения с устойчивыми аграрными распорядками и иными обычаями.
Средневековое крестьянство было очень неоднородно в экономическом, социальном и правовом отношении. В пределах страны, области и даже деревни крестьяне имели разный достаток и статус. Социальная дифференциация крестьянства приняла форму имущественного расслоения лишь в позднем Средневековье и в раннее Новое время под воздействием рынка и развития капитализма. До этого она зависела во многом от других факторов: родословной конкретной семьи, её численности и т.д. В раннем Средневековье определяющим было происхождение крестьянина: статус крестьянина, происходившего от рабов, был ущербен, а повинности, как правило, более тяжёлыми (итальянские и французские сервы, английские вилланы и т.д.). Потомки свободных общинников-варваров и крестьян античного типа обычно находились в лучшем положении, в частности реже и в меньшем объёме несли барщину. Позднее на первый план выдвинулись отношения конкретного крестьянина с его сеньором или сеньорами, а именно объём повинностей, которые он нёс. Общая тенденция истории крестьянства состояла в постепенном улучшении его положения в результате обретения личной свободы и уменьшения эксплуатации. Чаще всего это достигалось выкупом отдельных повинностей (крестьянином или целой общиной), реже - путём законодательного ограничения власти сеньоров, что характерно для контадо (округи) городов Средней Италии в 18 веке. Важную роль в ограничении эксплуатации играла аграрная колонизация новых земель (Кастилия, Португалия, немецкие поселения в Венгрии, Пруссии, славянских странах), а также сопротивление крестьянства, выливавшееся иногда в крупные восстания (смотри Жакерия, Уота Тайлера восстание 1381). Однако Европа знала и обратную тенденцию социального развития. В частности, в Центральной Европе в позднем Средневековье положение зависимых крестьян ухудшилось, в некоторых странах они были прикреплены к земле.
Различаются три формы феодальной зависимости: личная, поземельная и судебно-административная. Поскольку все они были связаны с рентой, которая дробилась между сеньорами в результате пожалований, передачи по наследству, брачных союзов и т.д., крестьянин нередко находился одновременно в зависимости от нескольких сеньоров. Рента могла делиться как по долям, так и по наименованию повинностей. Понятие «крепостной» неприменимо к формам феодальной зависимости раннего, тем более классического Средневековья, поскольку крепостничество предполагает наличие сильной централизованной власти и высокую однородность самого крестьянства. Ни тот ни другой феномен не существовал в средние века. Свободные крестьяне (скандинавские бонды, английские фригольдеры) имели достаточно высокий общественный статус (вплоть до представительства в парламенте, как это было в Норвегии и Швеции), они не несли повинности в пользу частных лиц, но эксплуатировались государством (в некоторых случаях эта эксплуатация не отличалась по тяжести от частновладельческой).
Феодальные повинности (отработки и платежи), принимавшие самые различные экономические и правовые формы, являлись на практике модификациями феодальной земельной ренты. Её основными формами были барщина (отработочная рента) и оброк (продуктовая и денежная ренты). Они сосуществовали на протяжении всей феодальной эпохи, причём крестьянин, как правило, был связан со своим господином всеми формами ренты. Наиболее распространённой была продуктовая рента. Барщина характерна в целом для двух исторических ситуаций: для раннего Средневековья - в тех странах, где феодальный строй вырос на основе рабовладельческого общества и крупных централизованных хозяйств, и для позднего Средневековья и раннего Нового времени - для тех стран и областей, развитие которых определялось рынком (региональным и международным). Начиная с 16 века, Центральная и Восточная Европа (Восточная Германия, Польша, Венгрия, позднее Прибалтика) оказалась аграрным придатком всё более урбанизировавшихся стран Западной Европы, где всё большую роль играла промышленность и где уже развивался капитализм. Барщина зафиксирована также в ряде отсталых областей Западной Европы (Бретань, Северная Англия), которые и в средние века поставляли зерно, другие натуральные продукты на международный рынок. Она наиболее заметна в земледелии, особенно в хлебопашестве, и не играла сколько-нибудь значительной роли в скотоводческих, рыболовецких, а также поликультурных хозяйствах (с упором на садоводство, виноградарство, промыслы). Кроме того, барщина нехарактерна для районов с высокой концентрацией свободного крестьянства (Скандинавия, Швейцария, Нидерланды, Кастилия), как и для сильно урбанизированных регионов (Северная и Средняя Италия, Рейнская Германия, средиземноморская Франция). Денежная рента встречается почти повсеместно, но особенно важную роль она играла в странах с развитым рынком и денежным хозяйством (в Италии даже в раннем Средневековье). В большинстве стран Западной Европы денежная рента вышла на первый план в позднем Средневековье (почти всегда в сочетании с продуктовой рентой). Смена форм феодальной ренты была многолинейной. Источники не подтверждают гипотезу о последовательной смене отработочной ренты продуктовой, а последней - денежной рентой. С одной стороны, в конкретных природно-географических и исторических условиях отработочная рента могла вообще не иметь места, а с другой - могла вызываться к жизни новыми обстоятельствами и сменять как продуктовую, так и денежную ренту. Иногда объём и форма повинностей были предметом письменного договора между крестьянином и сеньором (итальянские либелярии, английские копигольдеры). Однако в большинстве стран феодальные сеньориальные повинности были определены обычаями вотчины (иногда и целой местности) и фиксированы. Правовой статус крестьянства также нередко оформлялся как памятниками обычного права (кутюмы, фуэрос, вайстюмер), так и законодательными актами.
И. С. Филиппов.
Крестьянство в Западной Европе в Новое и Новейшее время. В 17-18 века крестьянство по-прежнему составляло большинство населения (от 70 до 90%) Западной Европы, что определяло её как сельское, аграрное общество. С утверждением абсолютных монархий на крестьянство - феодально-зависимое, неполноправное сословие - легло основное бремя государственных налогов и рекрутирования солдат для армий. Ранее возникшие различия в аграрном строе и положении крестьянства отдельных регионов Европы приняли форму аграрного дуализма: возникли два территориально разграниченных типа аграрных отношений, условным рубежом между которыми являлась река Эльба. В ареале к западу от Эльбы (Франция, западногерманские земли, Англия, Нидерланды, австрийские области монархии Габсбургов, Испания, Португалия) в деревне шёл процесс разложения феодальных отношений и постепенного формирования капиталистических отношений. Аграрный строй этих стран характеризовали личная свобода крестьян и распространение мелкого крестьянского хозяйства при господстве дворянского и церковного землевладения. Денежные и натуральные платежи крестьян-держателей или арендаторов в целом вытеснили барщину. В сеньориях во Франции и центральных областях Испании, на западе Германии обычными были бессрочные наследственные держания. Крестьяне могли закладывать, дарить и продавать свои земельные участки, но они по-прежнему несли различные феодальные повинности - поземельные и связанные с хозяйственными привилегиями сеньоров. С крестьян взимались большие денежные взносы при вводе в наследство и продаже земельного участка. Сеньориальные платежи, церковная десятина и государственные налоги поглощали до половины всего дохода крестьян, что, как правило, лишало их возможности улучшать хозяйство. Хотя в областях с системой наследственного бессрочного держания крестьянам принадлежала значительная часть земли (во Франции 35-40% в конце 18 века), острейшей проблемой западноевропейского ареала было малоземелье и безземелье крестьян и, как следствие, повсеместное распространение мелкой, чаще всего краткосрочной, крестьянской аренды, при которой земледельцы также были обязаны нести в разном объёме феодальные повинности.
Втягивание деревни в товарно-денежные, рыночные отношения повлекло за собой развитие капиталистического уклада. Этот процесс принял особенно большие размеры в Англии. Начавшееся ранее вытеснение крестьян-держателей (копигольдеров) с их участков крупными землевладельцами усилилось в 17 веке и приняло форсированный характер в 18 веке в виде «парламентских огораживаний». Освободившиеся земли и присвоенные общинные угодья лорды маноров огораживали и сдавали в аренду предпринимателям, которые заводили собственное хозяйство на капиталистической основе с использованием наёмного труда. Длившиеся несколько столетий огораживания привели в начале 19 века к экспроприации крестьянства и глубокой перестройке аграрного строя в Англии: его традиционная структура «землевладелец - крестьянин» сменилась триадой «землевладелец - капиталистический арендатор - наёмный сельскохозяйственный рабочий». В 18 веке капиталистическая аренда получила значительное распространение также на землях дворян и Церкви в северных районах Франции, Италии и Голландии.
С 17 века капиталистические отношения внедрялись в деревне также вследствие перерастания традиционного крестьянского ремесла в надомную кустарную промышленность. Множество крестьян, имевших собственные средства производства (прялки, ткацкие станки и др.) или получившие их от купцов-предпринимателей, втягивались в созданную ими систему рассеянной мануфактуры. В 18 веке это производство (особенно текстильное) достигло таких размеров, что в Англии, Франции, германских землях, Северной Италии в сельской местности сложились промышленные зоны, охватывавшие десятки и сотни деревень. Занятие промышленным трудом превращалось для десятков и сотен тысяч малоимущих крестьян и пауперов в главный источник существования, а сами они оказывались на положении наёмных работников с крошечными участками земли.
Усиление имущественного расслоения крестьянства, поляризация деревни, выражавшаяся в выделении зажиточной крестьянской верхушки, которая приобщалась к эксплуатации малоимущих односельчан, нуждавшихся в дополнительном заработке, стало в Новое время общей тенденцией аграрной эволюции во всех странах западноевропейского ареала.
Иначе складывались в 17-18 века судьбы крестьян на территориях к востоку от реки Эльба, в восточногерманских землях, восточной части империи Габсбургов (в Чехии, Венгрии, Силезии) и Дании. Здесь дворянство, используя свою судебную и политическую власть и поддержку государства, добилось прикрепления к земле ранее свободных крестьян. В результате захватов мелких крестьянских наделов и пустошей образовались крупные дворянские имения, все работы в которых выполнялись с помощью барщинного труда крепостных крестьян, владевших собственным рабочим скотом и инвентарём. Дворяне были заинтересованы в существовании таких крепких крестьянских дворов, так как они являлись необходимым придатком господского хозяйства. Малоземельные и безземельные крестьяне, превращённые в крепостных батраков и подёнщиков, также отбывали барщину на земле помещика. В дворянских имениях барщина достигала 3-6 дней в неделю, в Пруссии и Дании она была введена и на коронных землях.
Крепостные крестьяне находились в полном личном подчинении помещика: он контролировал их семейную жизнь, вершил суд (допускались телесные наказания), собирал с них государственные подати, назначал сельских старост, без его согласия крестьяне не могли заниматься каким-либо промыслом. Бесправие крестьян находило своё крайнее выражение в случаях продажи крепостных (с землёй или без земли). Барщинно-крепостническая система, получившая в исторической литературе название «вторичное закрепощение», достигла своего наибольшего развития во 2-й половине 18 века.
В 17 веке крестьянские движения представляли собой основную форму социального протеста народных масс. Наибольшее распространение получили антифеодальные и антиналоговые восстания, причём эти виды протеста часто сливались воедино и получали поддержку городских низов. Самые крупные из таких выступлений - вооруженные восстания в Испании (в Каталонии в 1640-52 и 1688-89 и в Валенсии в 1692) и в Италии (крестьянская война во время революции 1647-48 на неаполитанском юге). В Англии происходили многочисленные выступления крестьян, боровшихся с огораживанием общинных земель. В 18 веке большинство участников продовольственных (хлебных) бунтов принадлежало к тем слоям деревни, которые были вынуждены покупать хлеб.
В 18 веке в Западной Европе начались антифеодальные преобразования, которые осуществлялись посредством реформ или революционным путём. Наиболее значительные реформы были проведены в Дании: отменено крепостное право и резко сокращена барщина, произведён раздел общинных земель между крестьянами-держателями, безземельные крестьяне получили небольшие участки земли (частично за счёт помещичьих владений). Образование слоя крепких крестьян-середняков способствовало капиталистической эволюции сельского хозяйства.
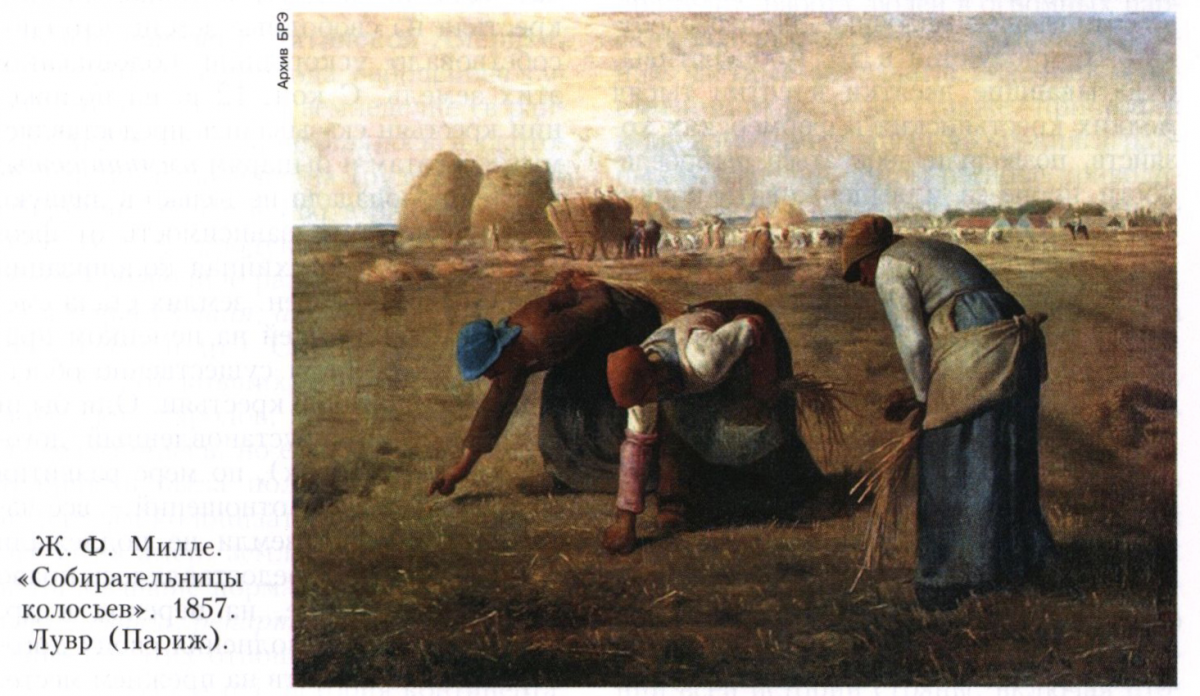 Наиболее радикальные антифеодальные преобразования имели место во время Французской революции 18 века. Под напором мощного крестьянского движения были безвозмездно упразднены все феодальные повинности и платежи, а земельные наделы крестьян-цензитариев перешли в их полную собственность. Была ликвидирована неполноправность крестьян. В большинстве же европейских стран ликвидация феодальных отношений растянулась на десятилетия и осуществлялась на условиях, максимально выгодных для землевладельцев-дворян, в ущерб интересам крестьян. В Испании феодальные сеньоры стали собственниками земель крестьян-держателей, переведённых на положение арендаторов, обязанных вносить арендную плату в объёме прежних феодальных платежей. В других странах вводился выкуп феодальных повинностей и платежей. Особенно тяжёлой эта операция оказалась для крестьян Пруссии, которым пришлось выплатить огромные денежные суммы помещикам и передать им сотни тысяч гектаров земли. Заключение соглашений о выкупе продолжалось до начала 20 века, а взнос выкупных платежей закончился в 1932 году. В Пруссии, Испании, восточных землях Австрийской империи крестьяне несли феодальные повинности, включая барщину, до середины 19 века; пережитки феодализма, различные формы личной зависимости сохранялись в некоторых странах в первые десятилетия 20 века.
Наиболее радикальные антифеодальные преобразования имели место во время Французской революции 18 века. Под напором мощного крестьянского движения были безвозмездно упразднены все феодальные повинности и платежи, а земельные наделы крестьян-цензитариев перешли в их полную собственность. Была ликвидирована неполноправность крестьян. В большинстве же европейских стран ликвидация феодальных отношений растянулась на десятилетия и осуществлялась на условиях, максимально выгодных для землевладельцев-дворян, в ущерб интересам крестьян. В Испании феодальные сеньоры стали собственниками земель крестьян-держателей, переведённых на положение арендаторов, обязанных вносить арендную плату в объёме прежних феодальных платежей. В других странах вводился выкуп феодальных повинностей и платежей. Особенно тяжёлой эта операция оказалась для крестьян Пруссии, которым пришлось выплатить огромные денежные суммы помещикам и передать им сотни тысяч гектаров земли. Заключение соглашений о выкупе продолжалось до начала 20 века, а взнос выкупных платежей закончился в 1932 году. В Пруссии, Испании, восточных землях Австрийской империи крестьяне несли феодальные повинности, включая барщину, до середины 19 века; пережитки феодализма, различные формы личной зависимости сохранялись в некоторых странах в первые десятилетия 20 века.
В 19 веке распространение в деревне капиталистических отношений усилило социальную дифференциацию крестьянства. Хозяйства верхнего, зажиточного слоя крестьян превращались в капиталистические фермы, отличавшиеся высоким уровнем товарности и постоянным использованием наёмного труда (помимо труда семьи владельца фермы). Средние слои крестьянства вели своё хозяйство, опираясь на семейный труд, а подавляющая часть производимой продукции предназначалась для собственного потребления. Самая большая и постоянно увеличивавшаяся часть крестьянства включала в себя собственников или арендаторов мелких и мельчайших участков земли, которые выживали только при условии постоянной или периодической работы по найму. В Германии в конце 19 - начале 20 века в распоряжении более чем половины всех крестьянских хозяйств находилось менее 6% всей земли, 80% этих хозяйств не имели лошадей. Во Франции уже в начале 1860-х годов более половины всего самодеятельного населения, занятого в сельском хозяйстве, составляли постоянные или временные наёмные рабочие. Численность сельскохозяйственного пролетариата постоянно увеличивалась.
Малоземелье, хроническая задолженность государству и частным лицам (особенно долги по ипотеке) ослабляли крестьянские хозяйства, делали их легко уязвимыми в условиях колебаний рыночной конъюнктуры. Затяжной аграрный кризис 1880-90-х годов повлёк за собой разорение сотен тысяч крестьян. Возраставшая перенаселённость и скрытая безработица в деревне лишь частично смягчались оттоком сельского населения в городскую промышленность. На рубеже веков развилась массовая эмиграция деревенского населения, принявшая особенно большие размеры на юге Италии.
Несмотря на сокращение численности крестьянства, оно оставалось основной трудовой массой населения в большинстве западноевропейских стран. Во многом сохранялся традиционный крестьянский бытовой уклад, а трудолюбие и глубокая привязанность к земле позволяли многим крестьянам выдерживать натиск крупного производства. Благодаря правовому уравнению населения в Западной Европе крестьянство в ряде стран (прежде всего во Франции, а также в Скандинавских государствах) стало оказывать значительное влияние на политическую жизнь.
В Новейшее время на судьбы крестьянства Западной Европы огромное воздействие оказал технический переворот в сельском хозяйстве, начавшийся в 1950-60-е годы. Широкомасштабная электрификация, механизация и химизация сельскохозяйственного производства, его перестройка на индустриальной основе - эти радикальные преобразования повлекли за собой концентрацию производства, увеличение его капиталоёмкости, резкий рост производительности труда и падение спроса на рабочую силу. Уже к концу 1960-х годов вследствие этих сдвигов резко сократилась численность занятых в сельском хозяйстве (от трети до половины в отдельных странах). Десятки и сотни тысяч мелких и мельчайших крестьянских хозяйств были ликвидированы, не выдержав конкуренции с крупными капиталистическими фермами. И хотя сохранившиеся карликовые хозяйства (площадью от 1 до 5 га) всё ещё количественно преобладали, они в большинстве случаев превращались в подсобные (подчас приусадебные) хозяйства, так как основной доход их владельцев складывался из различных дополнительных заработков. В то же время части мелких семейных ферм удалось сохраниться благодаря их Техническому переоснащению.
В условиях развернувшегося в сельском хозяйстве аграрного переворота, который сопровождался наступлением крупных аграрно-промышленных комплексов и финансового капитала, важным средством выживания мелких и части средних крестьянских и фермерских семейных хозяйств стала кооперация, получившая в 1960-70-е годы широкое распространение практически во всех странах Западной Европы. Возникли сотни и тысячи производственных и сбытовых кооперативов разных типов: по совместному ведению хозяйства, по совместной аренде и обработке земли, по совместному использованию сельскохозяйственной техники, птицеводческие, молочные, по переработке сельскохозяйственной продукции и др. Кооперативы, охватывавшие десятки и сотни тысяч мелких крестьянских и фермерских хозяйств, позволяли добиваться рентабельности производства и выдерживать конкуренцию. Однако это не могло изменить основной тенденции аграрного развития стран Западной Европы, отчётливо выявившиеся во 2-й половине 20 века: прогрессирующее сокращение численности крестьян, верных традиционным методам хозяйственной деятельности, и их неуклонное вытеснение различными группами сельскохозяйственных производителей предпринимательского типа.
В. С. Бондарчук.
Крестьянство в Центральной и Восточной Европе. В землях, заселённых славянами, к 6 веку наблюдался процесс разложения родового строя и перехода к ведению хозяйства силами одной семьи в рамках территориальной общины. Постоянные земельные наделы крестьян, как правило, не подлежали покупке или продаже, но их можно было взять в аренду за долю урожая, чем пользовались обедневшие общинники. К 10 веку большая часть крестьян оставалась свободными людьми, однако постепенно выделялись, с одной стороны, малоземельные и безземельные, а с другой - крупные собственники, которые селили в своих владениях несвободных людей, главным образом из числа военнопленных. В польских, чешских, хорватских землях становление феодальных отношений происходило в основном под влиянием внутренних факторов, в болгарских и сербских землях оно было ускорено византийским завоеванием в 11 веке. По мере роста крупной собственности в зависимость от светских (можновладцы, паны, бароны, боляры, властели, кнезы и др.) и духовных феодалов попадали бедные крестьяне, искавшие у своих богатых соседей экономической помощи за отработки и платежи - натуральные и частично деньгами. Определённые обязанности на свободное крестьянское население (починка дорог и мостов, оборонительных сооружений, содержание двора, войск и чиновников и т.д.) налагала и укреплявшаяся государственная власть. В течение 11-12 веков большинство крестьян попали в различные формы феодальной зависимости, о чём свидетельствует упоминание в источниках таких категорий, как парики, отроки, меропахи, сервы, закупы, дедичи, ратаи и др. Верховное право собственности на землю они были вынуждены уступить феодалу (князю, Церкви, магнату) и обязывались платить феодальную ренту (реже отработочную, чаще натуральную). Крестьяне, проживавшие на государственных землях, были обременены многочисленными натуральными повинностями, платили деньгами и натурой налоги и подати; также на них была возложена обязанность уплаты церковной десятины. Наиболее распространёнными формами протеста против феодальной эксплуатации были восстания (в 1037-1038 в Польше, во 2-й половине 12 века в хорватской Полице, в Болгарии - Ивайла восстание 1277-80 и др.), а также бегство крестьян на свободные земли, что способствовало ускоренной колонизации этих земель. С конца 12 века на положении крестьян сказывались предоставляемые магнатам и рыцарям иммунитеты: крестьяне попадали не только в личную, но и в судебную зависимость от феодалов. С 13 века стихийная колонизация в западнославянских и словенских землях стала сменяться колонизацией на немецком праве, в первое время существенно облегчившей положение крестьян. Они были обязаны платить установленный договором чинш (оброк), по мере развития товарно-денежных отношений - всё чаще деньгами, их земли не подлежали отчуждению, им предоставлялось право на самоуправление, на переход к другому феодалу после выполнения своих договорных обязательств на прежнем месте.
Однако этот процесс не получил распространения в большинстве сёл в Польше и Чехии.
Улучшение положения крестьян не было длительным. В Польше начало переменам к худшему было положено статутами Казимира III Великого (1346-47), ограничившими право свободного переселения крестьян, а Петрковским статутом (1496) и сеймовыми конституциями начала 16 века они практически были прикреплены к земле. В Чехии с конца 14 века наряду с ростом налогов и денежного чинша наблюдалось увеличение барщины в отдельных крупных владениях, затруднялся свободный переход крестьян. Этот процесс был замедлен гуситским движением, существенно ограничившим церковно-монастырское землевладение в пользу светских феодалов, в том числе средней и мелкой шляхты. В словацких землях свободное переселение крестьян законодательно было затруднено уже в 15 веке.
В 15 веке происходили существенные перемены в положении крестьянства в славянских землях Балканского полуострова, оказавшихся под властью Османской империи. Была введена военно-ленная система, славянское население (райя) обязали выполнять феодальные повинности и платить налоги в пользу государства, ставшего верховным собственником большей части сельскохозяйственных угодий. Существенно уменьшились возможности социальной мобильности крестьян, их не допускали к военной и государственной службе без перехода в ислам. Фактически перестал существовать класс крупных земельных собственников. Со 2-й половины 16 века военно-ленная система стала приходить в упадок, резко увеличились государственные налоги, особенно чрезвычайные, а также отработочные повинности крестьян. Нараставший застой в сельском хозяйстве привёл к кризису османской военно-феодальной системы и заметному экономическому отставанию региона от Западной Европы.
В славянских землях, лежащих к востоку от Эльбы, наблюдался процесс так называемого вторичного закрепощения крестьян. В связи с растущей заинтересованностью шляхты в товарном производстве зерна в собственных имениях (фольварках) происходило ограничение размера крестьянских наделов, переселение крестьян на худшие земли и даже их сгон с земли. Если средний размер крестьянских владений в Польше в 16 веке составлял около половины лана (1 лан - 16-24 га), то в 1-й половине 17 века - четверть лана, а во 2-й половине 17 века уже преобладали карликовые хозяйства. Одновременно увеличивались феодальные повинности, происходил возврат к отработочной ренте. В Польше уже в 1520 году была установлена норма барщины - не менее 1 дня в неделю для хозяйства в 1 лан. Со временем она составляла даже 6 дней в неделю с 1 лана. Аналогичный процесс наблюдался в хорватских землях, где барщина с 30-40 дней в год в 14 веке возросла в 16 веке до 3-6 дней в неделю. В 16 веке фольварки (велькостатки) возникали в Чехии, но рост барщины наблюдался лишь с 17 века, после битвы при Белой Горе (1620) она достигла даже 5-6 дней в неделю. В Словакии крестьяне должны были работать на пана 3-4 дня в неделю. Ограничивалось право свободного перехода крестьян. В сёлах, устроенных на немецком праве, ликвидировалось крестьянское самоуправление, судебная власть над крестьянами передавалась помещикам. В Польше Сигизмунд I Старый в 1519 отказался от права вмешиваться в споры между крестьянами и помещиками. Лишь в королевских владениях крестьяне сохранили право жаловаться на старост и арендаторов в специальные суды. Крепостная зависимость крестьян всё больше походила на рабство, появилась практика их продажи или залога без земли. Реакцией крестьян, помимо бегства, стали восстания. В 1573 и 1755 годах мощные крестьянские восстания потрясли Хорватию, в 1573 - Словению. Крестьянские выступления, возглавленные П. Гжибовским и Косткой Наперским, вспыхнули в 17 веке в Польше. В 1680 крестьянское восстание охватило больше половины территории Чехии и часть Моравии. Не прекращались восстания и в 18 веке, особенно мощным было выступление в 1775.
В 18 веке наблюдались признаки осознания правящим классом неэффективности барщинно-фольварочного хозяйства. В Польше наиболее прогрессивные магнаты, а также часть средней шляхты провели полную или частичную отмену барщины в своих имениях, заменяя её денежными платежами. С середины 18 века активно обсуждались программы реформ, направленных на облегчение положения крестьян, однако они так и не были осуществлены до падения Речи Посполитой. Регламентация поземельных отношений в Чехии началась в 1680, когда Леопольд I своим патентом юридически оформил отношения между крепостными и феодалами и ограничил барщину 3 днями в неделю. В Славонии Мария Терезия в 1755 установила тяглую барщину в 24 дня в год с хозяйства. В Хорватии подобная регламентация была проведена в 1780, но годовой размер барщины был определён в 52 дня. В Чехии в 1775 ликвидировали господскую пашню, а землю передали крестьянам в аренду, то есть отработочную ренту заменили денежной, в 1781 Иосиф II Габсбург отменил личную зависимость крестьян, а также провёл налоговую реформу. В 1767 была регламентирована барщина различных категорий крестьян в Словакии.
Реальное изменение положения крестьян в славянских землях произошло только в 19 веке. В отдельных частях Польши сначала ликвидировали личную зависимость, а затем провели аграрные реформы (в прусской части в 1823, в австрийской части в 1848, в Царстве Польском в 1864). Наделение крестьян землёй облегчило развитие товарных отношений в сельском хозяйстве. Ответом крестьян на вызовы капиталистического хозяйства стало развитие различных форм сбытовой и потребительской кооперации, ссудно-сберегательных касс, а с 1890-х годов и крестьянских политических партий. Усилились процессы концентрации крестьянской собственности, избыточное население уходило в города или эмигрировало (в основном в США, Канаду, Латинскую Америку, Австралию). Однако крупное землевладение не было уничтожено, что порождало постоянные конфликты между крестьянами и помещиками.
У славян восточной и центральной части Балкан аграрный переворот был связан с освобождением из-под османского господства в последней четверти 19 - начала 20 века. В этом регионе вся земля оказалась в собственности крестьян и государства, а низкий уровень капиталистического развития не способствовал процессам её концентрации.
Аграрные реформы, проведённые в Польше, Чехословакии и в западных областях Королевства сербов, хорватов и словенцев в период между двумя мировыми войнами, не покончили с крупным землевладением феодального происхождения, хотя и существенно ограничили его, особенно инонациональное. Это сохраняло почву для социальных конфликтов на селе вплоть до конца Второй мировой войны 1939-45. Окончательно вопрос о земле в пользу крестьян был решён реформами 1940-х годов, когда большая часть земель перешла в руки крестьян, а меньшая часть - в государственную собственность. На рубеже 1940-50-х годов в славянских государствах началась коллективизация по советскому образцу. В полном объёме она была проведена в Чехословакии и Болгарии. В Польше и Югославии большая часть земли осталась в собственности семейных крестьянских хозяйств. После разрушения «реального социализма» в Чехословакии и Болгарии землю вновь передали в частные руки. Тем самым произошла регенерация крестьянства как социальной группы, владеющей собственными средствами производства. С конца 20 века наблюдается процесс трансформации семейных крестьянских хозяйств в фермерские, особенно успешный в принятых в Европейский союз Чехии, Словакии, Польше, Болгарии и Словении.
Г. Ф. Матвеев.
Крестьянство в Латинской Америке. В Америке до прихода европейцев существовало развитое земледелие (в районе Анд к нему прибавлялось и скотоводство), основанное на труде крестьян-общинников. Производство в значительных количествах сельскохозяйственной продукции (прежде всего маиса) позволило развиться древним цивилизациям (майя, ацтеков, инков, чибча-муисков и др.). С приходом европейцев, уничтоживших государственность индейских народов, крестьянская община сохранилась, но её производственная деятельность была полностью подчинена интересам колонизаторов, которые принесли на американскую землю институты, соответствовавшие нормам феодальных отношений (энкомьенда, репартимьенто и др.). На характер этих отношений оказала влияние и расово-этническая история континента.
Индейцы всегда оставались крестьянами, а креолы, впоследствии и метисы - частными землевладельцами. В колониальный период сформировалась крупная земельная собственность, которая приносила её владельцам доход в результате эксплуатации либо рабов, вывезенных из Африки, либо крестьян-индейцев, находившихся в крепостной или полукрепостной зависимости от латифундистов. Война за независимость в Латинской Америке привела к перераспределению собственности, но не изменила социальных отношений в деревне: крестьянин-индеец по-прежнему был лишён земельной собственности и находился на положении бесправного арендатора у земельного магната. В 19 веке аграрный сектор ряда латиноамериканских стран (Аргентина, Уругвай, Парагвай) пополнился эмигрантами из Европы, большая часть которых стала собственниками фермерских хозяйств, способствовавших наполнению внутреннего и внешнего рынка своей продукцией. Село в Латинской Америке в 20 веке значительно отставало от города в процессе модернизации. В первую очередь это было связано с крестьянским безземельем и малоземельем. Поэтому огромную остроту приобрёл в этих странах аграрный вопрос. Значительные перемены в положении крестьянства произошли в результате Мексиканской революции 1910-17, Гватемальской революции 1944-54, Кубинской революции, оказавших влияние и на другие страны, где были проведены аграрные реформы в пользу крестьянского класса. Однако до сих пор крестьянство в большинстве стран Латинской Америки остаётся самой обездоленной частью населения.
Я. К.
Крестьянство на Древнем Востоке. В Месопотамии о крестьянстве как особой социальной группе можно определённо говорить с конца 3-го тысячелетия до нашей эры, когда в связи с кризисом экономического базиса древнего общества - дворцово-храмовых хозяйств утвердилась аренда царской или храмовой земли земледельцами-общинниками. Эти издольщики обладали относительной хозяйственной самостоятельностью, и труд их был более эффективным, чем принудительная работа людей в огромных царских хозяйствах. Формировались крупные частные земельные владения, собственники которых также прибегали к аренде. Дальнейшая эволюция аграрных отношений в этом регионе приводила, несмотря на разного рода отступления, связанные, прежде всего, с завоеваниями одних государственных образований другими, к утверждению крестьянского хозяйства как основной производящей ячейки в деревне, обязанной содержать верховную власть и чиновничество путём выплаты налогов и выполнения различных повинностей.
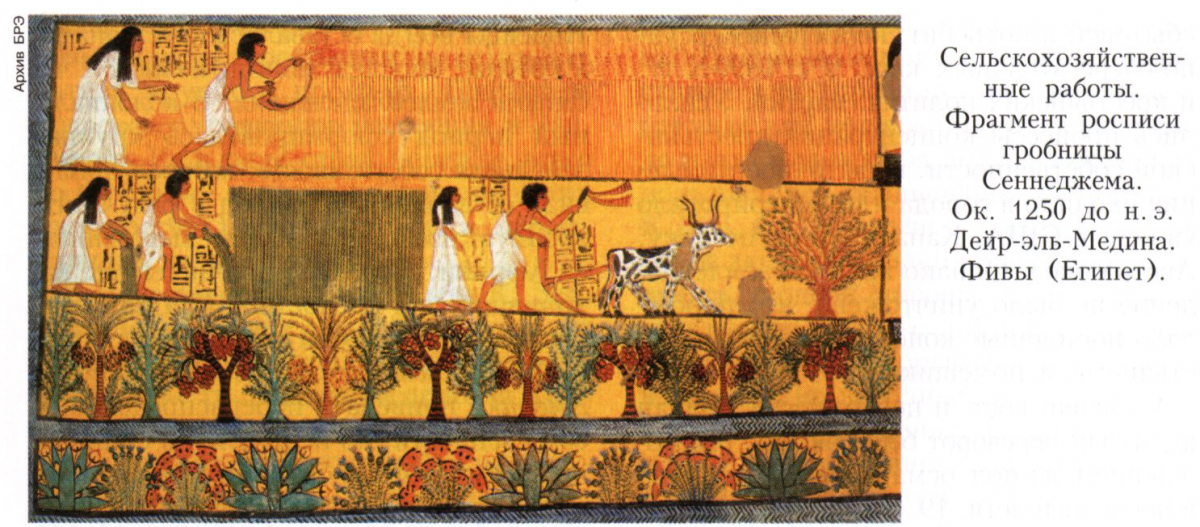 В Древнем Египте сельское население также зависело от верховной власти, и главной фигурой, осуществлявшей жёсткую связь между ними, был сборщик налогов. Крестьянское хозяйство не было самостоятельным на протяжении всей истории страны, включая птолемеевский Египет (в это время вошёл в практику такой полуэкономический, полуадминистративный способ подчинения крестьян власти, как государственное кредитование земледельцев семенами). Эксплуатация крестьян государством со временем дополнилась их эксплуатацией сформировавшимся слоем крупных земельных собственников, занимавших значительные позиции в бюрократической системе управления. Этот слой существовал как за счёт перераспределения централизованной земельной ренты, так и за счёт присвоения прибавочного продукта, созданного в мелком крестьянском хозяйстве, пользовавшемся известной хозяйственной самостоятельностью. Однако независимое частнособственническое крестьянское хозяйство здесь так и не возникло.
В Древнем Египте сельское население также зависело от верховной власти, и главной фигурой, осуществлявшей жёсткую связь между ними, был сборщик налогов. Крестьянское хозяйство не было самостоятельным на протяжении всей истории страны, включая птолемеевский Египет (в это время вошёл в практику такой полуэкономический, полуадминистративный способ подчинения крестьян власти, как государственное кредитование земледельцев семенами). Эксплуатация крестьян государством со временем дополнилась их эксплуатацией сформировавшимся слоем крупных земельных собственников, занимавших значительные позиции в бюрократической системе управления. Этот слой существовал как за счёт перераспределения централизованной земельной ренты, так и за счёт присвоения прибавочного продукта, созданного в мелком крестьянском хозяйстве, пользовавшемся известной хозяйственной самостоятельностью. Однако независимое частнособственническое крестьянское хозяйство здесь так и не возникло.
Формирование крестьянства в Древнем Китае в историографии относят обычно к эпохе Инь (Шан) (1766-1122 или 1600-1027 до нашей эры). В это время в аграрных отношениях утвердилась система цзин-тянь («колодезные поля»), которая как некая исходная модель просуществовала с различными модификациями несколько сотен лет. Это была, по сути, надельная система, при которой, помимо участков крестьян-общинников, существовала и собственно земля вана (правителя), обрабатывавшаяся барщинным способом. В период Восточной Чжоу (770-256/249 до нашей эры) наблюдается имущественное расслоение среди крестьян, что, вероятно, связано с появлением частной собственности на землю. Рост влияния «сильных домов», добивавшихся признания личной зависимости крестьян, на фоне общего ухудшения экономического положения страны привёл к широкому участию крестьянства в «жёлтых повязок» восстании 184-205.
В целом эволюция аграрных отношений на Древнем Востоке характеризовалась отходом от изначального господства дворцово-храмового хозяйства, обрекавшего земледельцев-общинников на принудительный труд. Появление крупной земельной собственности ознаменовало переход к аренде, приведшей к укоренению мелкого крестьянского хозяйства. При этом не исчезла зависимость крестьянина ни от крупного частного землевладельца (оброк), ни от государства (строительные и ирригационные работы, налоги), постоянно прибегавшего к принуждению. В древневосточных государствах частная земельная собственность распространилась лишь на высшие слои общества, в отличие от средиземноморского мира, где охватила и мелкие крестьянские хозяйства, активно участвовавшие в становлении торгового обмена с городом и далёкими краями. Превращение мелкого крестьянского хозяйства на Востоке в основной элемент экономической системы аграрного общества обеспечило завершение формирования крестьянства как социального класса и исторический переход к Средневековью.
Крестьянство на средневековом Востоке. Существенным фактором укрепления мелкого крестьянского хозяйства и роста его производительности при переходе к Средневековью на Востоке стало использование железных орудий. Циклы аграрного производства, применяемая агротехника, состав возделываемых культур стали зависеть главным образом от выбора крестьянина, скованного в то же время в хозяйственной инициативе требованиями землевладельца и государства. Увеличение массы прибавочного продукта, производившегося в индивидуальном крестьянском хозяйстве, не сопровождалось развитием товарно-денежных отношений, а выливалось в рост частной и государственной ренты, создававший материальные предпосылки для появления значительных по мощи и занимаемому пространству государств - империй. Крестьянство явилось и социальной базой для распространения и укоренения основных мировых религий на Востоке. В самой общине происходила внутренняя дифференциация: из крестьянской массы выделялась верхушка, закабалявшая остальных общинников; в то же время в общине долго сохранялся и обычай использования рабского труда. Наиболее активно в средневековый период развивалась арабо-мусульманская цивилизация. Важная особенность аграрных отношений в этом мире заключалась в распространении права мульк, фактически узаконивавшего налогооблагаемую частную собственность на землю (часто и на воду), которой могли владеть как крупные земельные собственники, именуемые часто в историографии феодалами, так и крестьяне-общинники. Мульк стимулировал социальную дифференциацию и социальную мобильность в мусульманских странах, в своём развитии обгонявших в этот период государства не только Востока, но и Запада.
В средневековой Индии, где ещё в древности образовалась система варн - сословно-кастовых групп, из которых поначалу вайшьи составляли здешнее крестьянство, произошёл существенный сдвиг в социальной наполняемости варн, и крестьянский труд был закреплён за низшей из них - шудрами. В 4-5 века нашей эры в империи Гуптов сложилась система, которую принято называть феодальной: происходили дарения земель вместе с их обитателями, крестьяне оказывались в зависимости от крупных землевладельцев, а община дробилась. Эта система в целом сохранилась позднее, при господстве раджпутов. Однако, несмотря на изменение размеров общины, её внутренняя структура оказалась очень устойчивой, что успешно использовалось властью в фискальных целях и в эпоху Могольской империи.
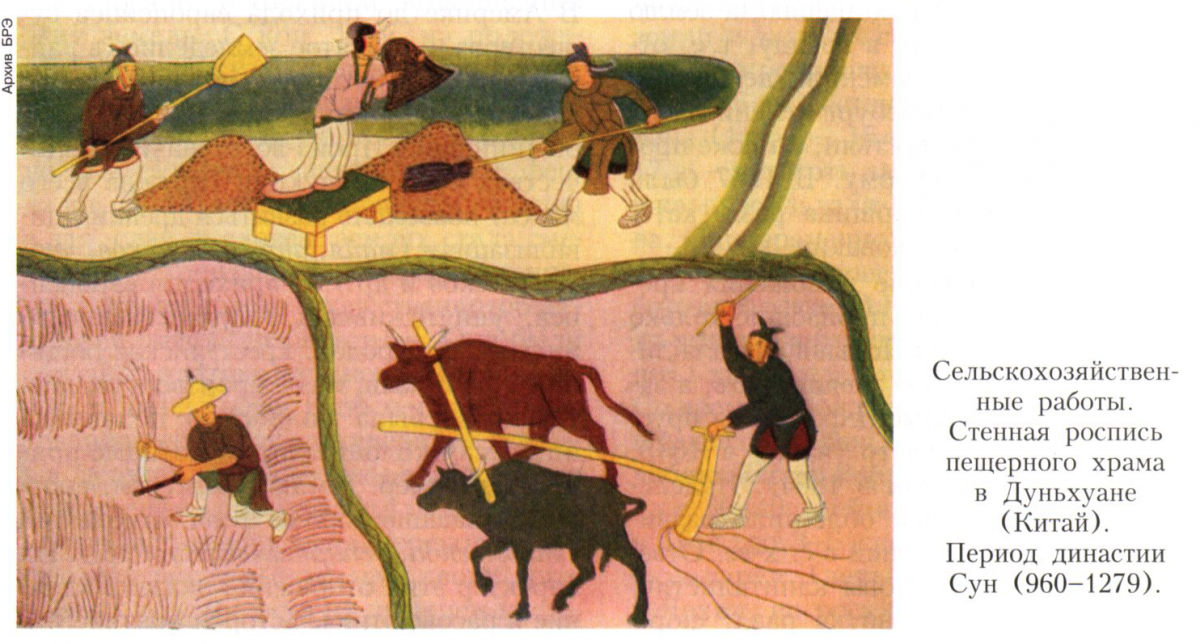 В Китае феодальные отношения просматриваются во 2-3 века, когда страна переживала экономический и демографический спад, массы крестьян переходили под опеку крупных землевладельцев и приближались по своему статусу к крепостному состоянию. Возвращение к надельной системе в государстве Цзинь (265-419) и распространение её в более поздние периоды не ликвидировало зависимость крестьянской массы от феодалов, но способствовало росту этой массы, поскольку наделы от государства получали новые люди, а в эпоху династии Тан (618-907) - и государственные рабы, фактически превращавшиеся в крестьян, что означало окончательное завершение эпохи существования государственного хозяйства как главного производителя сельскохозяйственной продукции. В эту эпоху надельная система стала заменяться частным землевладением, что привело в эпоху Сун (960-1279) к значительному социальному расслоению и растущему недовольству разорявшихся земледельцев, вылившемуся в крестьянское восстание в Сычуани в 990-х годах. Дальнейшая бюрократизация системы управления в Китае в средние века отразилась и на деревне, испытывавшей растущий налоговый гнёт. В эпоху Мин (1368-1644) состав крестьянства усложнился в связи с широким распространением аренды и даже субаренды земли у частных лиц, что повлекло за собой увеличение слоя частно зависимых крестьян. В связи с внедрением мелкой крестьянской аренды на пустующих землях, объявленных государственными, возродилась надельная система. В конце этой эпохи чиновничество стало усиленно обзаводиться земельной собственностью, добившись для себя налогового иммунитета. Это привело к тому, что одна часть крестьян, чтобы избежать непомерного налогового гнёта, стала либо перебираться на земли такого рода собственников, оказываясь в зависимом положении от них, либо покидала деревню и переселялась в города. Другая часть крестьян пребывала в статусе военных поселенцев - держателей участков государственной земли на условиях наследственной военной службы. Главные тяготы китайское крестьянство несло от постоянно увеличивавшихся налогов, что привело к мощной Крестьянской войне 1628-45, «похоронившей» власть династии Мин. На смену ей в 1644 пришла маньчжурская династия Цин, начавшая властвовать с подавления крестьянских выступлений. Фискальный гнёт восстановился, но новая власть поначалу несколько смягчила его, так как стремилась к укреплению своего положения в чужой стране путём предоставления налоговых льгот населению, в том числе и крестьянства. В 18 веке ситуация в деревне стабилизировалась, но крестьянское хозяйство по-прежнему оставалось натуральным, чему способствовали власти, требовавшие с крестьян налог, выплачиваемый рисом, а не обесценивавшимся серебром.
В Китае феодальные отношения просматриваются во 2-3 века, когда страна переживала экономический и демографический спад, массы крестьян переходили под опеку крупных землевладельцев и приближались по своему статусу к крепостному состоянию. Возвращение к надельной системе в государстве Цзинь (265-419) и распространение её в более поздние периоды не ликвидировало зависимость крестьянской массы от феодалов, но способствовало росту этой массы, поскольку наделы от государства получали новые люди, а в эпоху династии Тан (618-907) - и государственные рабы, фактически превращавшиеся в крестьян, что означало окончательное завершение эпохи существования государственного хозяйства как главного производителя сельскохозяйственной продукции. В эту эпоху надельная система стала заменяться частным землевладением, что привело в эпоху Сун (960-1279) к значительному социальному расслоению и растущему недовольству разорявшихся земледельцев, вылившемуся в крестьянское восстание в Сычуани в 990-х годах. Дальнейшая бюрократизация системы управления в Китае в средние века отразилась и на деревне, испытывавшей растущий налоговый гнёт. В эпоху Мин (1368-1644) состав крестьянства усложнился в связи с широким распространением аренды и даже субаренды земли у частных лиц, что повлекло за собой увеличение слоя частно зависимых крестьян. В связи с внедрением мелкой крестьянской аренды на пустующих землях, объявленных государственными, возродилась надельная система. В конце этой эпохи чиновничество стало усиленно обзаводиться земельной собственностью, добившись для себя налогового иммунитета. Это привело к тому, что одна часть крестьян, чтобы избежать непомерного налогового гнёта, стала либо перебираться на земли такого рода собственников, оказываясь в зависимом положении от них, либо покидала деревню и переселялась в города. Другая часть крестьян пребывала в статусе военных поселенцев - держателей участков государственной земли на условиях наследственной военной службы. Главные тяготы китайское крестьянство несло от постоянно увеличивавшихся налогов, что привело к мощной Крестьянской войне 1628-45, «похоронившей» власть династии Мин. На смену ей в 1644 пришла маньчжурская династия Цин, начавшая властвовать с подавления крестьянских выступлений. Фискальный гнёт восстановился, но новая власть поначалу несколько смягчила его, так как стремилась к укреплению своего положения в чужой стране путём предоставления налоговых льгот населению, в том числе и крестьянства. В 18 веке ситуация в деревне стабилизировалась, но крестьянское хозяйство по-прежнему оставалось натуральным, чему способствовали власти, требовавшие с крестьян налог, выплачиваемый рисом, а не обесценивавшимся серебром.
Развитие бюрократической системы, главным стержнем которой был сбор налогов, тяжким бременем ложившихся на крестьянство, характерно и для стран Юго-Восточной Азии (в частности, Камбоджи и Вьетнама, причём в Северном Вьетнаме власти прибегали и к назначению чиновников, управлявших крестьянскими общинами). В середине 15 века в государстве Аютия (Сиам) была введена оригинальная система рангов, основанная на размерах территории, принадлежащей землевладельцу. Эта иерархическая система управления и землевладения, в целом характерная для Востока, но в наиболее целостном виде развёрнутая в Аютии, закрепляла за крестьянством место внизу социальной структуры, к которой можно применить понятие «феодализм».
Надельная система поначалу сложилась и в средневековой Японии. Предусмотренное законами периодическое перераспределение земли постепенно подменялось закреплением наделов в долговременное, практически пожизненное, пользование. Дальнейшее развитие аграрных отношений в этой стране характеризовалось исчезновением надельной системы (к началу 10 века) и замещением её хозяйствами, функционировавшими на принципах частной собственности. Крупной земельной собственностью обзаводились аристократы и чиновники, на землях которых трудились зависимые от них крестьяне. Эти процессы неизбежно приводили к имущественной дифференциации в деревне. Усложнялась налоговая система, с которой связано появление особого бюрократического слоя в самой деревне (за сбор налогов отвечал один из хозяев, отчитывавшийся перед городскими властями за выплату налогов крестьянами окрестных селений и постепенно подчинявший их экономическими и административными методами). К середине 16 века феодальная земельная собственность укрепилась либо за счёт экспроприации за долги участков мелких крестьян аристократией, либо путём выгодной сдачи в аренду земли разбогатевшими крестьянами своим разорившимся односельчанам. Зажиточные крестьяне завладели управлением общиной и превратились во влиятельную социальную силу, связанную с рынком и способную даже противостоять налоговой агрессии чиновничества.
Особым образом происходило формирование социально-классовой структуры в Османской империи, где складывалась сословная система. Крестьяне в этой системе относились к многочисленному податному сословию - райятам (в 19 веке этот термин относился только к немусульманам) при сохранении внутренней общинной организации. В 17-18 века возникает наследственное частнофеодальное поместье (чифтлик), одним из основных источников формирования которого стало присвоение крестьянских земель чиновниками и разбогатевшими землевладельцами.
Крестьянство на Востоке в Новое время. Новое время для стран Востока означает в первую очередь введение колониального режима, который подчинил экономику этого региона интересам европейцев и в то же время способствовал модернизации социальных и экономических отношений. С начала 17 века европейцы начинают активное проникновение в Азию. Вместе с товарами на континент приходят новые религиозные идеи, отразившиеся на сознании различных слоёв общества, в том числе крестьянства (влиянием христианского учения отмечены крестьянские восстания в Японии в 1-й половине 17 века и др.). Состав производимой сельскохозяйственной продукции всё больше подчинялся интересам колониальной торговли, почти целиком находившейся в руках европейцев. Сокращалась доля традиционных культур, которые производились в основном в индивидуальных крестьянских хозяйствах. Крестьянин становился объектом эксплуатации не только местных крупных землевладельцев, но и европейцев. Ускорился процесс превращения крестьянина в собственника.
Сельское хозяйство Индии и в условиях английского колониального господства оставалось малопродуктивным, что в немалой степени объяснялось неподвижной социально-кастовой структурой индийской деревни. Некоторые изменения в неё внесла система землевладения заминдари, которая делала всех землевладельцев равными перед лицом сборщика налогов. Однако даже в Северной Индии, где земельная собственность заминдаров по своим размерам мало отличалась от участков крестьян, статус последних из-за кастовых различий всегда был несравнимо ниже статуса раджпутов и брахманов, из которых состояли в основном заминдары. Пользователи земли равно облагались налогами и по системе райятвари, но и она не поколебала кастовые барьеры. Не разрушило их в индийской деревне и Индийское народное восстание 1857-59, объединившее против британских колониальных властей представителей всех социальных слоёв, религий и каст, но не поставившее под сомнение подчинение нижних слоёв деревни верхним. Эта традиция существовала на протяжении всего колониального периода и делала неразрешимой основную аграрную проблему - сохранение земли в основном во владении заминдаров и дефицит земли у крестьян-райятов. Принципиально не изменили ситуацию и законы, принятые колониальными властями, защищавшие некоторые категории арендаторов от произвола землевладельцев.
Господство голландцев на Яве привело к некоторым изменениям в деревне. Здесь была осуществлена земельно-налоговая реформа, напоминавшая систему райятвари в Британской Индии: крестьяне стали постоянными наследственными арендаторами государственных земель, освобождёнными от натуральных платежей и трудовой повинности и платившими властям налог.
Аграрные отношения в Китае 19 века характеризуются ростом социальной напряжённости, приведшей к Тайнинскому восстанию 1851-64, отличительная особенность которого - использование восставшими синтеза христианских и конфуцианских идей под общим лозунгом социальной справедливости. Другая специфическая особенность этого крестьянского движения - свойственная его руководителям и участникам тенденция воспроизводить отношения, типичные для укоренившейся бюрократической традиции.
В Османской империи, на протяжении всей её истории, не терявшей суверенитета, модернизация политической и хозяйственной жизни в середине 19 века (смотри в статье Танзимат) затронула аграрные отношения в косвенной форме - через преобразование налоговой сферы (отмена ильтизама, разорявшего крестьянство), но не отразилась на основах феодального строя.
Крестьянство на Востоке в Новейшее время. Застой в аграрных отношениях на Востоке с трудом изживался в 20 веке. Колониальный режим в известной степени способствовал их модернизации, но не изменил их сущности. Более того, своё бедственное положение крестьянство в колониальных и зависимых странах связывало с присутствием во власти иноземцев. Поэтому крестьянское движение стало одним из важных факторов национального освобождения. Само это движение, социальное по своему содержанию, испытывало воздействие различных политических сил: от национал-реформистских до коммунистических.
В Индии только с провозглашением независимости в 1947 и с приходом к власти партии Индийский национальный конгресс, в программе которой содержались положения о проведении аграрной реформы и принятии аграрного законодательства, произошёл определённый сдвиг. Однако межкастовое противостояние оказалось весьма живучим, а раздел бывшей Британской Индии на два государства привёл к обострению межэтнических и межконфессиональных противоречий, сопровождавшихся массовым переселением сельского населения. Значительно укрепилось фермерское землевладение, однако основную массу сельского трудящегося населения составляют малоземельные и безземельные крестьяне, а также сельскохозяйственные рабочие.
В Турции процесс модернизации, почти сведённый на нет в годы тиранического правления Абдул-Хамида II, активизировался после Младотурецкой революции 1908 и выразился, прежде всего, в отмене феодального натурального налога (ашар) в 1925.
Ликвидация помещичьего землевладения в странах, где произошли социалистические революции (Китай, Вьетнам, Северная Корея, Монголия), сопровождалась созданием сельскохозяйственных кооперативов, однако крестьяне не получили всех прав на прибавочный продукт, который в различной форме изымался в пользу государства. Доныне крестьянство в этих странах, хотя его трудовая деятельность и затронута научно-техническим прогрессом (современная агротехника, использование машин и т.д.), остаётся самой бедной частью населения.
Н. К.
Крестьянство в России
Середина 1-го тысячелетия - середина 13 века. Сельское население составляло подавляющую часть восточных славян. Его занятия к середине 1-го тысячелетия - земледелие, скотоводство, рыболовство, охота, бортничество, а также другие промыслы и деревенские ремёсла. Это подтверждено археологическими раскопками на территории современных Белоруссии, России и Украины. С широким распространением подсечного, а также переложного земледелия было связано продвижение в лесные районы словен, кривичей, вятичей, радимичей и др. Первые признаки перехода от подсеки и перелога к паровой системе (с 2-3-польным севооборотом), прежде всего на ранее освоенных землях, заметны в период становления Древнерусского государства.
Сельские поселения восточных славян в лесостепной полосе, по археологическим данным, первоначально располагались «гнёздами» (по 3-4 поселения в каждом «гнезде», на расстоянии от 1 до 5 км одно от другого). Расстояния между «гнёздами» достигали в среднем 30-40 км, но иногда доходили до 100 км и более. В 12-13 веках происходило укрупнение поселений в лесостепи, а также в опольях и на близких по ландшафту территориях Северо-Восточной Руси. При археологических раскопках обнаружены следы многодворных (в несколько десятков дворов) поселений. В жилищах малых семей площадью 10-20 м2 проживало, видимо, 4-5 человек. В северо-западном и северо-восточном районах Древнерусского государства застройка была по преимуществу прибрежно-рядовой, большинство поселений имело от 1-3 до 7-9 дворов. Сельские поселения до 14 века назывались весями, сёлами. Сёла в письменных источниках чаще всего упоминаются как княжеские владения и редко как боярские или церковные. Местами сбора дани во время полюдья, а также княжеского суда были погосты - центры волостей-общин (многие из них возникли как общинные центры ещё в догосударственный период).
Община (вервь в Русской правде), основанная первоначально на кровнородственных связях, постепенно трансформировалась в соседскую территориальную общину. Возникновение в 9-10 веках государства во главе с князьями, складывание социальных верхов (бояр, дружины), с помощью которых князья взимали дань и другие поступления со свободных крестьян-общинников, становление институтов управления и суда (в том числе по земельным конфликтам), практика княжеских пожалований постепенно сформировали верховное право собственности князей-правителей на землю и в значительной мере на результаты труда податного населения, прежде всего, сельского. В ходе дискуссий 1950-80-х годов одни учёные считали, что эти процессы свидетельствовали о формировании государственной (феодальной) собственности на землю и отчасти на крестьян, другие видели в них разделение собственности государства и волостей-общин.
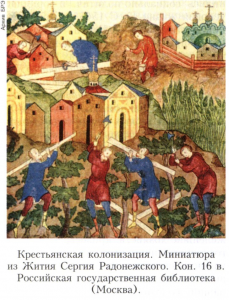 Основная масса крестьянства в 10-13 века была лично свободной и обозначалась в источниках термином «люди». Их представители в разных социальных и юридических ситуациях могли именоваться «мужами». Одновременно формировались категории земледельцев, лично зависимых и полузависимых от князей, с 12 века - также от бояр и церковных землевладельцев: челядь, рабы, холопы (с 10 века), смерды (с 11 века), закупы и др. Челядь - одна из самых ранних в восточнославянской среде категорий патриархальных рабов - выполняла различные функции и в сельской жизни, и в городском обиходе. В связи с переходом определённой части таких рабов на положение земледельцев термин «работа» постепенно стал обозначать повинность барщинного типа (смотри Барщина). Закупы как юридически значимая группа оформились к началу 12 века. Ими становились люди, попавшие в долговую кабалу и обязанные своей работой, в том числе и на господской пашне, вернуть долг заимодавцу. Последний предоставлял закупу в качестве ссуды надел земли, сельскохозяйственные орудия, рабочий скот. Любой уход закупа от господина, кроме особо оговорённых случаев, квалифицировался законом как «бегство» и превращал закупа в полного холопа. Свидетельства источников о повинностях сельского населения крайне скудны. Главными из них были натуральные и отчасти денежные платежи в пользу государства.
Основная масса крестьянства в 10-13 века была лично свободной и обозначалась в источниках термином «люди». Их представители в разных социальных и юридических ситуациях могли именоваться «мужами». Одновременно формировались категории земледельцев, лично зависимых и полузависимых от князей, с 12 века - также от бояр и церковных землевладельцев: челядь, рабы, холопы (с 10 века), смерды (с 11 века), закупы и др. Челядь - одна из самых ранних в восточнославянской среде категорий патриархальных рабов - выполняла различные функции и в сельской жизни, и в городском обиходе. В связи с переходом определённой части таких рабов на положение земледельцев термин «работа» постепенно стал обозначать повинность барщинного типа (смотри Барщина). Закупы как юридически значимая группа оформились к началу 12 века. Ими становились люди, попавшие в долговую кабалу и обязанные своей работой, в том числе и на господской пашне, вернуть долг заимодавцу. Последний предоставлял закупу в качестве ссуды надел земли, сельскохозяйственные орудия, рабочий скот. Любой уход закупа от господина, кроме особо оговорённых случаев, квалифицировался законом как «бегство» и превращал закупа в полного холопа. Свидетельства источников о повинностях сельского населения крайне скудны. Главными из них были натуральные и отчасти денежные платежи в пользу государства.
В конце 12 - 13 века произошла существенная перемена социально-политических условий существования крестьянства: полюдье постепенно преобразовалось в систему кормлений. В обязанности крестьян входили транспортные, строительные и другие отработки. Свободные крестьяне выделяли своих представителей в княжеское ополчение. Барщина на господских землях практиковалась среди сельских холопов, челяди и закупов. Развёрстка платежей, оброков и других повинностей происходила, вероятно, в рамках волостей, общин, а центрами сбора становились (наряду с погостами) становища и города.
Вытеснение языческих верований христианством в сельской местности происходило медленнее, чем в городах. Утверждение власти Церкви над сельскими прихожанами сопровождалось выступлениями во главе с языческими жрецами-волхвами (11-12 века). Церковь закладывала в крестьянской среде представления о божественном характере власти князей-правителей, их авторитете как «милостивых» и справедливых судей.
Середина 13 - середина 16 века. После монголо-татарского нашествия, резко ослабившего экономический потенциал всех древнерусских княжеств, изменилась политическая карта Восточной Европы в результате экспансии Польши, Венгрии, Великого княжества Литовского (ВКЛ) и др. Это прямо повлияло и на судьбы крестьянства. Сельское население лесостепи в подавляющем большинстве уходило в междуречье Оки и Волги, а из ополий междуречья - главным образом в северо-западные, северные и северо-восточные районы Руси. Осваивались требовавшие больших начальных затрат труда земли в лесных массивах и на водоразделах рек. Новая волна крестьянской внутренней колонизации (земледелие возобновлялось на заброшенных пашнях, поблизости закладывались новые росчисти) и внешней колонизации (продвижение в Среднее Поволжье, Вятскую землю, Предуралье и частично в Зауралье; к югу от среднего и нижнего течения Оки) относилась в основном ко 2-й половине 15- середине 16 века. Продвижение крестьянства на юг и юго-восток затруднялось частыми ордынскими набегами 13-15 века, казанских ханов набегами и крымских ханов набегами.
Активно возделывавшиеся земли располагались примерно между 54° и 60°, отчасти 61° северной широты; с присоединением Северщины в конце 15 века рубеж пашни отодвинулся к 51° северной широты. Севернее 60-й параллели вызревали лишь скороспелые сорта ячменя и некоторые огородные культуры. Климат Русской равнины был умеренно континентальным с достаточным уровнем осадков, редкими засухами. С 15 века и особенно с 16 века началось изменение климата, сопровождавшееся более частыми и сильными заморозками в конце весны - начале лета и в начале осени. Происходило понижение температуры в вегетационный период, увеличение осадков осенью и т.п. Эти изменения климата отрицательно сказывались на урожаях. Годовой цикл сельскохозяйственных работ (не считая молотьбы) составлял не более 5-6 месяцев (2-я половина апреля - середина сентября). На основной территории России преобладали тяжёлые почвы с пониженной биологической активностью. К югу от среднего течения Оки климат, рельеф и почвы благоприятствовали земледелию.
Источники фиксируют термины, обозначавшие типы поселений, которые возникли благодаря колонизации 13-15 века. Появление слова «деревня» (от «драть») связано с раскорчёвкой нови крестьянами. От глагола «починать» произошло слово «починок», свидетельствовавшее о первых шагах по окультуриванию под пашню неосвоенных или заброшенных земель. По инициативе государственной власти и крупных вотчинников складывался новый тип поселений - слободы, для которых вводилась административно-судебная обособленность и устанавливались налоговые льготы. Деревни и починки были малодворными поселениями: от 1-3 до 6-9 дворов в зависимости от региона, давности освоения, типа владения. Они располагались на расстоянии 1-5 км и более друг от друга в границах волостей. Центрами княжеских (с начала 16 века дворцовых), церковных и других владений были сёла (реже сельца), в которых обычно находились господский и приказчичий дворы, церковь, дворы причта с церковной пашней, несколько десятков крестьянских дворов (в светских вотчинах также холопские дворы). К сёлам тяготели деревни, починки, пустоши. На землях лично свободных крестьян центрами чёрных волостей обычно были погосты с приходскими церквами или иные пункты, объединявшие десятки и даже сотни деревень. Ряд терминов («пустоши», «селища», «дворища», «печища») свидетельствовал о степени и длительности запустения земель в результате войн, эпидемий и т.п. в основном в середине 14 - середине 15 века.
В 13-16 века паровая система с 3-польным севооборотом стала преобладающей. При этом она нередко сочеталась с применением подсеки (при освоении лесных участков) и перелога. Староосвоенные и близко расположенные к деревне поля нередко дополнялись «пашней наездом» и росчистью, когда последовательность севооборота не соблюдалась. Соотношение ярового и озимого клиньев, размеры парового поля зависели от погодных условий и заметно варьировались.
Основными промыслами крестьянства в середине 13 - середине 16 века были рыболовство и бортничество (с 16 века - пчеловодство), подсобное значение имели охота, собирание ягод, грибов и т.п. На севере и северо-востоке главными занятиями крестьянства являлись охота на пушного зверя, ловля охотничьих птиц, морской промысел тюленей, моржей и др. Солеварение на севере, северо-востоке и в отдельных районах Центра сочеталось с земледелием или другими промыслами. Производилось сыродутное железо (Устюжна-Железопольская, северо-западные районы Новгородской земли и др.). Крестьяне повсеместно занимались обработкой дерева, специализируясь на производстве крепостных и жилых срубов, деревянной утвари, лаптей и посуды. В каждом дворе женщины пряли и ткали, с 16 века известно производство грубошёрстных сукон. По заказам односельчан и на рынок работали кузнецы, гончары и др.
Продолжалось совершенствование орудий труда, увеличился набор сельскохозяйственных культур, стала более совершенной техника земледелия, в крестьянском хозяйстве расширился круг промысловых и домашних ремесленных занятий. Использовалось несколько типов рал в зависимости от качества почв и характера вспашки. Появились рала с тяжёлыми наральниками, 2-3-зубые сохи с массивными сошниками. Не позднее 14 века на сохе стали крепить перекладную, а затем и неподвижную полицу, что привело в 16 веке к созданию сохи-косули, то есть орудия плужного типа, сохранившего при этом все преимущества сохи. Усовершенствовались также плуги, бороны, косы (горбуши и литовки) и др.
В условиях преобладания паровой системы с 3-польным севооборотом основными зерновыми культурами были озимая рожь и яровой овёс, составлявшие до 75-95% объёма зерновых в оброке крестьян. Резко сократились посевы полбы, уменьшилось производство пшеницы и яровой ржи. Продолжали сеять ячмень, просо, гречиху. Возросла в крестьянском хозяйстве роль овощей, особенно капусты, репы, редьки, моркови, увеличилось производство технических культур (лён, конопля). Выращивали плодовые деревья (яблони, груши, вишни) и т.п. Конское поголовье с последней четверти 15 века регулярно пополнялось табунами из Ногайской Орды и др. В каждой крестьянской семье было в среднем по одной лошади на взрослого работника, 1-2 малорослые коровы, овцы, птица.
Происходила дальнейшая эволюция системы повинностей крестьянства. В период зависимости русских земель и княжеств от Золотой Орды все сельские труженики выполняли не только государственные и частновладельческие повинности, но и выплачивали значительную часть ордынского выхода, ряд категорий сельского населения нёс специальные транспортные, натуральные и иные повинности в пользу ханских представителей.
В конце 15 - середине 16 века система крестьянских повинностей существенно видоизменилась благодаря отмене ордынского выхода после Стояния на Угре 1480, а также в связи с началом писцовых описаний, которые вводили новую единицу обложения крестьян государственными налогами - соху, и ликвидацией кормлений в ходе реформ правительства Избранной рады (середина 16 века). Возросла роль централизованных совокупных сборов (налогов и пошлин), переводившихся с середины 16 века преимущественно в денежную форму, при сохранении отдельных натуральных поставок и при увеличении объёма транспортных, военных, строительных и других работ барщинного типа. Сборы уплачивались в казну, соответствующие дворцы, приказы. У черносошных и владельческих крестьян, по приблизительным подсчётам, изымалось около 25- 30% совокупного продукта (у первых в пользу государства, у вторых - государства и собственников земли). К концу 15 века оформилось разделение государственных чёрных и дворцовых земель, заселённых соответственно черносошными и дворцовыми крестьянами.
Сравнительно быстрый рост в конце 14-15 века церковного землевладения и контингента зависимых от Церкви крестьян к середине 16 века несколько замедлился. При всех видовых и региональных отличиях в повинностях крестьянства преобладал натуральный оброк, фиксированный или рассчитанный из доли урожая (так называемое издолье); постоянно производились денежные взимания при постепенном увеличении отработок (сенокошение, заготовка дров, строительные работы).
В связи с отсутствием (до конца 15 века) статистических источников перемены в социально-экономическом и юридическом положении крестьянства устанавливаются по косвенным данным и, прежде всего, посредством совокупности терминов, описывавших сельское податное население. В 14 – начале 16 века известно несколько десятков терминов, относившихся к сельским производителям, не являвшимся холопами (к холопам, если они трудились на барщине в хозяйствах почти исключительно светских феодалов, практически всегда относились термины «пашенные», «страдные» люди). Одни из них указывали на место проживания крестьян [«сельчане», «деревенщики», «слободчане» («слобожане») и т.п.], другие - на государственно-административную, а также владельческую принадлежность [люди «великого князя», «княжеские» (в том числе великого и удельных князей), «инокняжцы», «волостные», «становые», «погостные» (Новгородская земля), «чёрные», «посадничьи» (Новгородская земля), «митрополичьи», «владычни» («домовые»), «монастырские», «церковные» («поповы») и т.п.]. Имущественные различия отразились в терминах «добрые», «лучшие», «большие», «меньшие», «худые» («худяки») люди и др. Основные занятия крестьянства (главным образом промыслы) отражены в названиях «бортники», «рыболовы», «огородники» и т.п., при этом в крупных хозяйствах, прежде всего, княжеских, эти и некоторые другие группы трудового населения находились в особых формах зависимости и обладали специфическим статусом (смотри в статье Путь). Длительность проживания крестьянина в данном месте отразилась в понятиях «старожильцы», люди «старинные», «давние» или, наоборот, «призванные», «пришлые», «приходцы» и т.п., причём эти характеристики были связаны с разным отношением указанных групп к государственному фиску.
С государевым тяглом связаны также термины «тяглые», «тяглецы», «письменные» и «неписьменные», «данские» люди и т.п. О видах ренты, её размерах свидетельствуют термины «половники» («исполовники»), «третники», «оброчники», «серебряники» и т.п. Их носители получали большие ссуды от землевладельца деньгами, рабочим скотом, орудиями труда; господин мог выкупить их из холопства или плена и предоставить им землю и ссуду. Источники сохранили также свидетельства их самопродажи с земельным наделом. В результате подобных сделок личная зависимость крестьянина преобладала над поземельной. Существовали ограничения на любой его уход от господина, соблюдались права собственника земли и заимодавца на надел и имущество такого крестьянина [сравни также названия: «непохожие», «неотхожие», «юрьевские рядовые», «окупленные» люди; «изорники» (Псковская республика); «закупные наймиты», «закладни» и т.п.].
 В 14 веке появился термин «христианин» в значении «крестьянин», который с рубежа 15 и 16 веков повсеместно применялся к основной массе сельского трудового люда (исключая холопов) и употреблялся главным образом в сочетании с определениями, указывавшими на владельческую принадлежность или имущественное положение той или иной категории: крестьяне чёрные, государевы оброчные, дворцовые и др.; крестьяне «добрые», «лучшие», «середине» и т.д.
В 14 веке появился термин «христианин» в значении «крестьянин», который с рубежа 15 и 16 веков повсеместно применялся к основной массе сельского трудового люда (исключая холопов) и употреблялся главным образом в сочетании с определениями, указывавшими на владельческую принадлежность или имущественное положение той или иной категории: крестьяне чёрные, государевы оброчные, дворцовые и др.; крестьяне «добрые», «лучшие», «середине» и т.д.
Унификация терминологии отразила сложные социально-экономические, политические и общественные перемены, произошедшие в стране и в положении крестьянства, в том числе распространение христианства в сельских местностях в процессе становления Русского государства. Основные социальные и юридические факторы, определяющие положение крестьянства, были закреплены правовыми актами Московского великого княжества и Русского государства (смотри в статье Судебники 15-16 века). Поземельная и личная зависимость крестьян закреплялась юридически посредством государственных ограничений крестьянских переходов (только в отношении дворохозяев) от одного владельца к другому по срокам и при условии уплаты специальных пошлин («пожилого»). Это заложило фундамент для начального этапа формирования крепостного права (конец 16 - середина 17 века; традиционно исследователи относят начало его формирования к середине - концу 15 века). Вместе с тем крестьяне ещё оставались в значительной мере субъектами права, отвечая лично и своим имуществом за те или иные нарушения закона. Они обладали совокупностью прав и обязанностей, прежде всего, в рамках общины и в сфере взаимоотношений с государством, светскими и церковными феодалами.
С последней трети 15 века наблюдался быстрый рост численности крестьянства. В староосвоенных районах Новгородской земли и в междуречье Оки и Волги в конце 15 века плотность населения достигала 3-7 человека на 1 км2. Преобладали средне- и многопосевные дворы с запашкой от 8-10 десятин (8,74-10,9 га) в 3 полях до 15-20 десятин (16,4-21,8 га). В Новгородской земле в конце 15 века, по различным источникам, средне- и многопосевные дворы имели запашку от 7-9 десятин (7,6-9,8 га) до 15-20 десятин (16,4-21,8 га). По подсчётам исследователей, урожайность ржи на единицу посева составляла сам-3, реже сам-4, что обеспечивало воспроизводство крестьянского хозяйства и семьи даже без учёта промыслов и неземледельческих занятий. На Рязанщине, наиболее плодородной территории Русского государства начала 16 века, по отдельным сведениям, урожайность ржи составляла сам-4-5, овса - сам-4-6, ячменя - сам-8-16.
Середина 16 - 17 веков. С середины 16 века резко возросли размеры территории Русского государства, а соответственно и площади сельскохозяйственных угодий. По подсчётам учёных, в середине 16 века население страны составляло около 6,5 миллионов человек, на рубеже 16 и 17 веков - около 7 миллионов человек, столько же - в 1648, около 9,4 миллионов человек - в 1678.
 В Нечернозёмном центре крестьяне возделывали главным образом рожь (озимую), овёс (яровой), а также ячмень и гречиху. В южных районах Чернозёмного центра и в Среднем Поволжье преобладали плодородные почвы и климатические условия были более благоприятными для земледелия, здесь сельскохозяйственные работы продолжались 7-7,5 месяцев, расширялся набор культур (пшеница, ячмень и др.), сокращался объём трудовых затрат на единицу продукции. В 17 веке насчитывалось около 20 плодово-ягодных культур, разводившихся крестьянами, выводились местные сорта яблонь, вишен, слив. Господствовавшее трёхполье дополнялось в лесных районах подсекой с перелогом, в лесостепи и степи - степным и луговым перелогом. Даже в староосвоенных землях Рязанщины, Нечернозёмного центра, Севера перелог постоянно использовался для восстановления плодородия почв. На отдельных дворцовых землях крестьяне применяли 5-польный севооборот с кормовыми культурами. Набор пахотных и других сельскохозяйственных орудий продолжал совершенствоваться. Продвижение крестьянства на юг и восток сопровождалось расширением сферы применения плуга, тяжёлых рал; использовались соха с полицей, соха-косуля, коса-литовка и т.п. При приспособлении орудий к новым условиям учитывался опыт местного населения Поволжья, Предуралья и т.д. Крестьянское хозяйство оставалось в целом экстенсивным и натуральным. Относительно высокая урожайность зерновых отмечена в южных районах, прежде всего, в урожайные годы. Например, в Козельском уезде в последней трети 16 века урожаи ржи были сам-4,5 и выше, овса и пшеницы - сам-5. Такие же урожаи известны в Черноземье (середина - 2-я половина 17 века) и на хорошо возделанных небольших участках пашни в северных уездах.
В Нечернозёмном центре крестьяне возделывали главным образом рожь (озимую), овёс (яровой), а также ячмень и гречиху. В южных районах Чернозёмного центра и в Среднем Поволжье преобладали плодородные почвы и климатические условия были более благоприятными для земледелия, здесь сельскохозяйственные работы продолжались 7-7,5 месяцев, расширялся набор культур (пшеница, ячмень и др.), сокращался объём трудовых затрат на единицу продукции. В 17 веке насчитывалось около 20 плодово-ягодных культур, разводившихся крестьянами, выводились местные сорта яблонь, вишен, слив. Господствовавшее трёхполье дополнялось в лесных районах подсекой с перелогом, в лесостепи и степи - степным и луговым перелогом. Даже в староосвоенных землях Рязанщины, Нечернозёмного центра, Севера перелог постоянно использовался для восстановления плодородия почв. На отдельных дворцовых землях крестьяне применяли 5-польный севооборот с кормовыми культурами. Набор пахотных и других сельскохозяйственных орудий продолжал совершенствоваться. Продвижение крестьянства на юг и восток сопровождалось расширением сферы применения плуга, тяжёлых рал; использовались соха с полицей, соха-косуля, коса-литовка и т.п. При приспособлении орудий к новым условиям учитывался опыт местного населения Поволжья, Предуралья и т.д. Крестьянское хозяйство оставалось в целом экстенсивным и натуральным. Относительно высокая урожайность зерновых отмечена в южных районах, прежде всего, в урожайные годы. Например, в Козельском уезде в последней трети 16 века урожаи ржи были сам-4,5 и выше, овса и пшеницы - сам-5. Такие же урожаи известны в Черноземье (середина - 2-я половина 17 века) и на хорошо возделанных небольших участках пашни в северных уездах.
В этот период принципиально изменились социально-политические и юридические условия жизни крестьянства. С 1545 на протяжении почти 100 лет в Европейской части Русского государства практически непрерывно велись военные действия в ходе внешних войн (Казанские походы, Ливонская война 1558-1583, Речи Посполитой интервенция начала 17 века, Шведская интервенция начала 17 века, русско-польские войны 17 века), а также масштабных внутренних социальных конфликтов (опричнина, Хлопка восстание 1603, Болотникова восстание 1606-1607 и др.). В результате были опустошены многие регионы, отмечены пандемии и длительные неурожаи. Несколько раз (конец 1570-х - середина 1580-х годов, 1601-03, 1610-20-е годы, конец 1650-х - начало 1660-х годов, конец 1680-х годов) страна переживала тяжелейшие хозяйственные кризисы. При этом государство постоянно ужесточало фискальную политику. В конце 16 века в большинстве новгородских пятин запустение пашни, положенной в тягло, достигало 90-95%, крестьянское население по сравнению с началом 16 века уменьшилось в 4-5 раз, в 7 раз и более сократилось число поселений. Аналогичной была картина во многих центральных уездах страны. Разруха меньше повлияла на положение крестьянства Среднего Поволжья, Заволжья, Вятского края, отдельных южных и северных уездов. В Смутное время немало крестьян перешло в вольное казачество, на посады, в стрелецкие слободы, в отдельных случаях - в состав купечества. На разорённых сельских землях в основном находились селища и пустоши, большая часть которых позднее не возобновлялась. При распашке староосвоенных земель к 1660-1670-м годам число поселений сократилось на 35-60%. Расстояния между сёлами и деревнями увеличились. При этом населённые пункты становились многодворнее, дворы укрупнялись в связи с переменами в налоговой политике и изменениями в способах взимания податей и т.п.
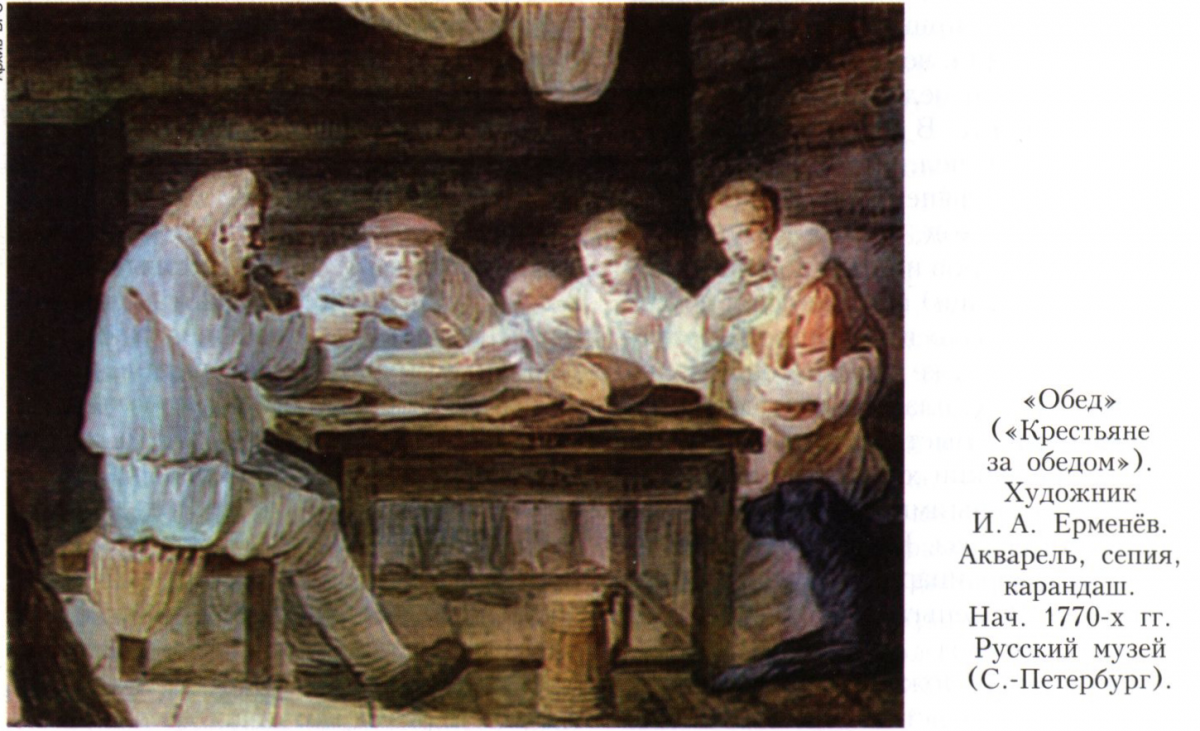 Во 2-й половине 16 века в центральных, южных и западных районах страны почти полностью был исчерпан фонд чёрных земель, перешедших в состав помещичьих или дворцовых владений. Чёрные волости и уезды сохранились в Поморье и Прикамье, Вятском крае, отчасти в Заволжье. Официальные документы середины 16 - 17 века делили крестьян на владельческих (помещичьих, вотчинных, а также иноземцевых - принадлежавших иностранцам на русской службе; дворцовых; духовных - патриарших, митрополичьих, владычных, монастырских, церковных) и государственных (черносошных, однодворцев, ясачных людей). С конца 16 века в документах упоминаются бобыли, главным отличием которых от крестьян была, как правило, их хозяйственная маломощность. Они облагались государственными и владельческими повинностями и платежами в половинном размере. Во 2-й четверти 17 века во многих уездах бобыли составляли 30-40% всего крестьянства. По мере преодоления хозяйственной разрухи доля бобылей в крестьянстве уменьшалась. По данным за 1678, в светских имениях бобылей было от 11-12 до 31-32% по уездам, в духовных владениях - от 17 до 29-30%. В последней трети 17 века в светских владениях в связи с подворным обложением зафиксированы «задворные и деловые люди», по происхождению холопы, посаженные на крестьянский надел и имевшие свой двор. Они фактически слились с основной массой крестьянства и составляли около 5%. Владельческие крестьяне (6,8 миллионов человек) составляли около 79% всего крестьянства (8,6 миллионов человек), из них около 4,6 миллиона человек принадлежало светским феодалам, 1,4 миллиона человек - духовным феодалам, свыше 0,8 миллиона человек относилось к дворцовому хозяйству. В составе государственных крестьян (свыше 1,8 миллиона человек) преобладали черносошные крестьяне и ясачные люди. Достигнутый к концу 1560-х годов уровень налогов, других сборов и повинностей (в денежном выражении) сохранился и во 2-й трети 17 века. Однако в 17 веке прежние налоги собирались уже с менее состоятельных крестьян. Крестьянство платило и новые налоги с высокими и быстро растущими ставками. «Стрелецкий хлеб», взимавшийся натурой или деньгами, к 1680-м годам увеличился в несколько раз. Крестьяне подвергались и экстраординарным поборам («запрос», «пятая деньга», затем «десятая деньга» - 1610-е годы, 1632-34, 1654-67) и косвенному обложению. Во 2-й трети 17 века правительство перешло к взиманию некоторых чрезвычайных сборов не по сошному окладу, а по дворам, затем ввело подворную развёрстку всех государственных налогов и других сборов (указы 1679 и 1681). У монастырских крестьян платежи в пользу государства выросли в последней трети 17 века по отношению к 1630-м годам в 2 раза и продолжали расти до конца 17 века. Самые высокие ставки старых и новых налогов приходились на государственных крестьян, в первую очередь на черносошных. Денежные платежи и повинности (транспортная, военная, строительная, «посошная служба» в армии и т.п.) ограничивали рост владельческой ренты, так как господин отвечал перед государством за недоимки своих крестьян. Ещё в 16 веке отмечен постоянный рост господской запашки в светских и духовных имениях с более активным привлечением крестьян к различным отработкам. При этом основная роль в полевой барщине на светских землях принадлежала холопам, в духовных владениях - в основном «детёнышам» (крестьянским сиротам, выросшим в монастырях и кабально от них зависевшим) и монастырским слугам. Натуральные поборы отличались разнообразием и включали практически всю продукцию промыслов и домашних занятий крестьянства, покрывая основные потребности владельцев в пище, напитках, одежде, утвари и т.п. Исследователи установили, что выплаты монастырских крестьян своим владельцам колебались в размерах 0,75-1 рубль в год (при наличии других видов ренты). Увеличение денежной ренты достигалось переводом на деньги различных мелких повинностей, пошлин от вотчинного суда и т.п. В целом эволюция государственной и владельческой ренты отражала натурально-потребительский характер поместно-вотчинных и крестьянских хозяйств и укрепляла поземельную, а с конца 16 века - и личную зависимость крестьянства.
Во 2-й половине 16 века в центральных, южных и западных районах страны почти полностью был исчерпан фонд чёрных земель, перешедших в состав помещичьих или дворцовых владений. Чёрные волости и уезды сохранились в Поморье и Прикамье, Вятском крае, отчасти в Заволжье. Официальные документы середины 16 - 17 века делили крестьян на владельческих (помещичьих, вотчинных, а также иноземцевых - принадлежавших иностранцам на русской службе; дворцовых; духовных - патриарших, митрополичьих, владычных, монастырских, церковных) и государственных (черносошных, однодворцев, ясачных людей). С конца 16 века в документах упоминаются бобыли, главным отличием которых от крестьян была, как правило, их хозяйственная маломощность. Они облагались государственными и владельческими повинностями и платежами в половинном размере. Во 2-й четверти 17 века во многих уездах бобыли составляли 30-40% всего крестьянства. По мере преодоления хозяйственной разрухи доля бобылей в крестьянстве уменьшалась. По данным за 1678, в светских имениях бобылей было от 11-12 до 31-32% по уездам, в духовных владениях - от 17 до 29-30%. В последней трети 17 века в светских владениях в связи с подворным обложением зафиксированы «задворные и деловые люди», по происхождению холопы, посаженные на крестьянский надел и имевшие свой двор. Они фактически слились с основной массой крестьянства и составляли около 5%. Владельческие крестьяне (6,8 миллионов человек) составляли около 79% всего крестьянства (8,6 миллионов человек), из них около 4,6 миллиона человек принадлежало светским феодалам, 1,4 миллиона человек - духовным феодалам, свыше 0,8 миллиона человек относилось к дворцовому хозяйству. В составе государственных крестьян (свыше 1,8 миллиона человек) преобладали черносошные крестьяне и ясачные люди. Достигнутый к концу 1560-х годов уровень налогов, других сборов и повинностей (в денежном выражении) сохранился и во 2-й трети 17 века. Однако в 17 веке прежние налоги собирались уже с менее состоятельных крестьян. Крестьянство платило и новые налоги с высокими и быстро растущими ставками. «Стрелецкий хлеб», взимавшийся натурой или деньгами, к 1680-м годам увеличился в несколько раз. Крестьяне подвергались и экстраординарным поборам («запрос», «пятая деньга», затем «десятая деньга» - 1610-е годы, 1632-34, 1654-67) и косвенному обложению. Во 2-й трети 17 века правительство перешло к взиманию некоторых чрезвычайных сборов не по сошному окладу, а по дворам, затем ввело подворную развёрстку всех государственных налогов и других сборов (указы 1679 и 1681). У монастырских крестьян платежи в пользу государства выросли в последней трети 17 века по отношению к 1630-м годам в 2 раза и продолжали расти до конца 17 века. Самые высокие ставки старых и новых налогов приходились на государственных крестьян, в первую очередь на черносошных. Денежные платежи и повинности (транспортная, военная, строительная, «посошная служба» в армии и т.п.) ограничивали рост владельческой ренты, так как господин отвечал перед государством за недоимки своих крестьян. Ещё в 16 веке отмечен постоянный рост господской запашки в светских и духовных имениях с более активным привлечением крестьян к различным отработкам. При этом основная роль в полевой барщине на светских землях принадлежала холопам, в духовных владениях - в основном «детёнышам» (крестьянским сиротам, выросшим в монастырях и кабально от них зависевшим) и монастырским слугам. Натуральные поборы отличались разнообразием и включали практически всю продукцию промыслов и домашних занятий крестьянства, покрывая основные потребности владельцев в пище, напитках, одежде, утвари и т.п. Исследователи установили, что выплаты монастырских крестьян своим владельцам колебались в размерах 0,75-1 рубль в год (при наличии других видов ренты). Увеличение денежной ренты достигалось переводом на деньги различных мелких повинностей, пошлин от вотчинного суда и т.п. В целом эволюция государственной и владельческой ренты отражала натурально-потребительский характер поместно-вотчинных и крестьянских хозяйств и укрепляла поземельную, а с конца 16 века - и личную зависимость крестьянства.
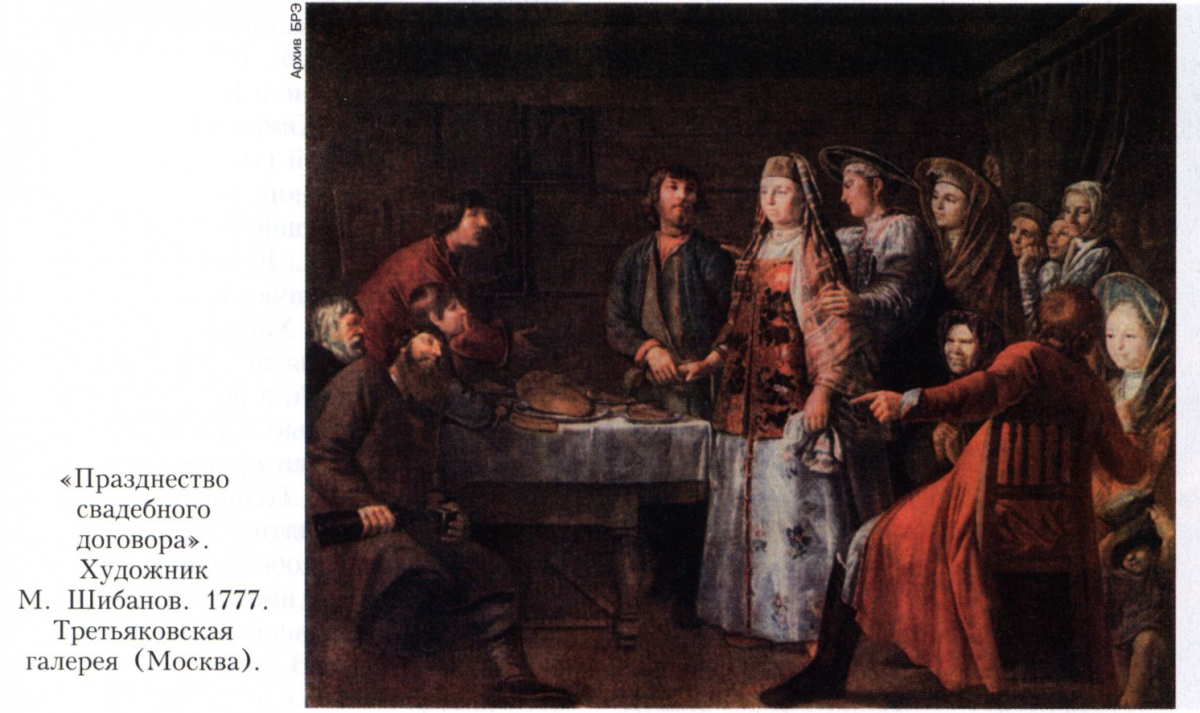 Хозяйственные кризисы 16-17 веков привели к невиданным ранее перемещениям русского крестьянства. Во 2-й половине 16 века крестьянство центральных, северо-западных, отчасти западных уездов двинулось в основном на северо-восток и юг. Волнообразная крестьянская колонизация поэтапно охватывала земли в верховьях Оки, Нижегородско-Арзамасский регион (3-я четверть 16 века), в конце 16 века - южное пограничье (Елецкий, Курский, Белгородский, Оскольский, Воронежский и другие уезды). Государство гарантировало безопасность переселенцев на юг страны сооружением засечных черт. Южные регионы в середине - 2-й половине 17 века заселялись крестьянами центральных уездов, из Поочья, а также украинцами. Крестьяне западных и частично центральных районов Поморья переселялись в Восточное Поморье и Сибирь. Колонизация Среднего Поволжья осуществлялась выходцами из Рязанщины и других уездов.
Хозяйственные кризисы 16-17 веков привели к невиданным ранее перемещениям русского крестьянства. Во 2-й половине 16 века крестьянство центральных, северо-западных, отчасти западных уездов двинулось в основном на северо-восток и юг. Волнообразная крестьянская колонизация поэтапно охватывала земли в верховьях Оки, Нижегородско-Арзамасский регион (3-я четверть 16 века), в конце 16 века - южное пограничье (Елецкий, Курский, Белгородский, Оскольский, Воронежский и другие уезды). Государство гарантировало безопасность переселенцев на юг страны сооружением засечных черт. Южные регионы в середине - 2-й половине 17 века заселялись крестьянами центральных уездов, из Поочья, а также украинцами. Крестьяне западных и частично центральных районов Поморья переселялись в Восточное Поморье и Сибирь. Колонизация Среднего Поволжья осуществлялась выходцами из Рязанщины и других уездов.
В последней четверти 16 - середине 17 века преобладали мало- или среднепосевные крестьянские хозяйства (вотчинные, поместные, дворцовые). Резко уменьшились и размеры надела. В конце 16 века в монастырских вотчинах он составлял от 3-4 десятин (3,3-4,37 га) до 6-7 десятин (6,6-7,6 га) и лишь в малоразорённых районах - 9-10 десятин. В тех же монастырях в 1620-30-х годах надел равнялся 2-3 десятинам (2,05-3,3 га), в редких случаях - 5-6 десятинам (5,4-6,6 га) и выше. Восстановление культуры земледелия во 2-й половине 17 века привело к росту надела в монастырских вотчинах в центральных уездах от 3-3,8 десятин (3,3-4,15 га) до 6,5-7 десятин (7,1-7,6 га), а в южных уездах иногда до 9-12 десятин (9,8-13,11 га). В светских владениях в ходе восстановления хозяйства средний надел составлял 5-6 десятин (5,5-6,6 га).
Фискальная политика русского правительства ещё во 2-й половине 16 века побудила крестьянство прибегать к аренде запустевших земель, а также к их незаконному использованию. Арендовались земли главным образом под зерновые культуры, а отчасти под сенокосные угодья. Крестьяне арендовали земли и у своих господ (до 25-30% и более от надельной запашки), что способствовало более эффективному использованию трудового потенциала и позволяло скрывать часть доходов от государственного обложения. Лишь в исключительных случаях (по преимуществу в конце 16 века) такая аренда, скорее всего, имела товарную направленность. Для выполнения денежных обязательств перед государством и владельцами крестьяне отправляли на рынок в первую очередь продукцию промыслов, домашних занятий и ремёсел; занимались отходничеством (с середины 17 века) и весьма редко вывозили хлеб на продажу.
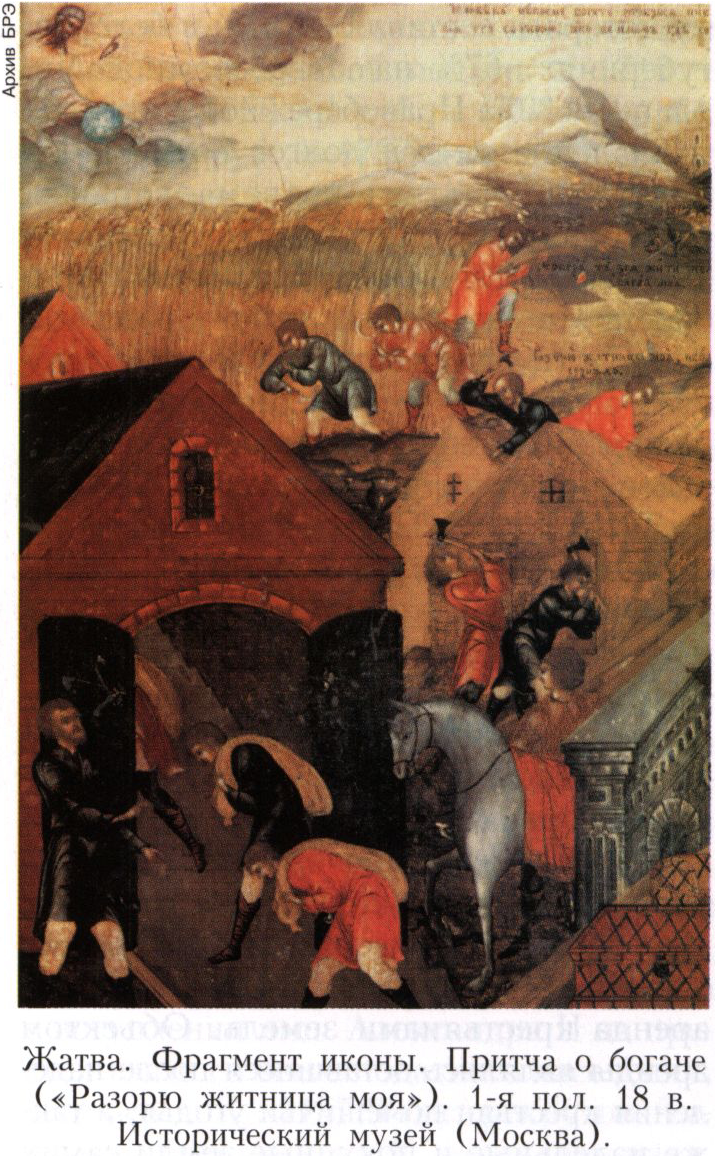 В конце 16 - 1-й трети 17 века в светских имениях в одном дворе находилось в среднем от 1,7-1,8 до 2,4-2,5 взрослых мужчин. В 1678 году на один крестьянский двор (в том числе бобыльский и задворных людей) в среднем приходилось около 3,7 душ мужского пола, а в собственно крестьянских дворах - в среднем до 4,25 душ мужского пола.
В конце 16 - 1-й трети 17 века в светских имениях в одном дворе находилось в среднем от 1,7-1,8 до 2,4-2,5 взрослых мужчин. В 1678 году на один крестьянский двор (в том числе бобыльский и задворных людей) в среднем приходилось около 3,7 душ мужского пола, а в собственно крестьянских дворах - в среднем до 4,25 душ мужского пола.
В крестьянском хозяйстве обычно держали 3-6 лошадей (включая молодняк), крупный рогатый скот, овец, птицу. На юге и в опольях наряду с лошадьми пахали на волах. Источники свидетельствуют о простом воспроизводстве хозяйственного потенциала крестьянского двора. Возможности имущественной дифференциации были ограничены фискальной политикой правительства и уравнительной практикой помещиков, вотчинников и общины. Расслоение среди крестьянства отмечено исследователями в торговых и промышленных сёлах (владения князей Черкасских и др.). С конца 16 века известны частичные поравнения наделов и вытного тягла, с середины 17 века производились полные земельные переделы в дворцовых владениях и монастырских вотчинах.
С конца 16 века ускорился процесс юридического оформления крепостного права. При этом ещё в середине 17 века крепостные крестьяне оставались в немалой степени субъектами в отдельных сферах действия права: они вступали в сделки внутри имений и за их пределами, были материально ответственны по суду за свои действия, могли выступать свидетелями, истцами, ответчиками в вотчинном, земском, а отчасти и в государственном суде. Их убийство или увечье в ряде случаев подпадало под уголовное преследование, за их «бесчестье» полагался штраф. В 1680-90-х годах крестьяне фактически слились в правовом статусе с «задворными и деловыми людьми» (холопами по происхождению). Во 2-й половине 17 века расширилась практика прямых обменов крепостных крестьян (она известна с конца 16 века) и продаж крестьянских семей.
Ухудшение экономического и правового положения крестьян с конца 16 века привело к специфическим изменениям в их мировоззрении. На рубеже 16 и 17 веков возникли социально-утопические представления о праведном «царевиче(царе)-избавителе» и о «незаконном» правителе, борьба с которым, по мнению части крестьянства, имела священный характер. Крестьяне мечтали о прямом доступе к новому, «истинному», царю без посредников в лице бояр и приказных. Эта идея охватила широкие слои крестьянства в Смутное время. Социальные потрясения 3-й четверти 17 века (в частности, Разина восстание 1670-71 и его позднейшие отзвуки в южных районах государства) сопровождались массовым бегством крестьян, что в том числе способствовало рождению в крестьянской среде идеи о «праведной земле - Беловодье». Поиск этой страны повлиял на рост колонизационного движения крестьянства на восток (в Зауралье, на Алтай, в Восточную Сибирь и далее).
18 век - 1861. В течение 18 - 1-й половины 19 века крестьянство продолжало оставаться преобладающей сословной категорией населения страны. Произошли существенные изменения в составе и численности различных разрядов крестьян.
Разряд государственных крестьян (казённых) юридически оформлен указами императора Петра I 1719-24. «Государственными крестьянами» они впервые названы в «плакате» 26.6(7.7).1724 о сборе подушных денег. В этот разряд вошли и позднее включались различные группы сельского населения как коренных русских территорий, так и присоединённых земель: бывшие черносошные, «экономические» (при осуществлении секуляризации 1764 от монастырей переданы в Коллегию экономии синодального правления, отсюда их название), незакрепощённые крестьяне западных, северо-западных и украинских губерний, Закавказья, Поволжья и Сибири, а также однодворцы, половники и так называемые поиезуитские крестьяне (находились на землях, отошедших к Российской империи после разделов Речи Посполитой, принадлежали ордену иезуитов, переданы в казну после удаления в 1820 иезуитов из страны). В 1830-х годах у польских помещиков, участников Польского восстания 1830-31, конфисковано свыше 200 тысяч ревизских душ принадлежавших им крестьян, которые также поступили в ведение казны.
Основная масса государственных крестьян была сосредоточена в северных и центральных губерниях, Среднем и Нижнем Поволжье, в Приуралье, Малороссии и отчасти в белорусских губерниях. Официально они именовались «свободными сельскими обывателями»; государство предоставляло им в пользование наделы, за которые они были обязаны нести фиксированные законом повинности - оброк, а в Архангельской, Олонецкой и Вологодской губерниях (вплоть до 19 века) - барщину. Кроме того, государственные крестьяне, как и другие податные сословия, платили подушную подать и несли прочие денежные и натуральные повинности. Положение государственных крестьян было неустойчивым, так как они могли быть подвергнуты различным формам закрепощения. При Петре I введена практика приписки государственных крестьян к государственным заводам или частным заводам, выполнявшим казённые заказы: к 1765 числилось 142 572 души мужского пола приписных крестьян, в 1795 - 312 218 душ мужского пола. В 18 веке широко практиковалась раздача казённых крестьян в частные руки путём «пожалований». При императоре Александре I раздача крестьян в частные руки прекратилась, однако сохранялись другие формы закрепощения: передача в военные поселения, перевод в удельное ведомство, продажа частным лицам. В западных губерниях и на Правобережной Украине сотни тысяч государственных крестьян были сданы в аренду (посессию) частным лицам. По «Положению о люстрации» от 28.12.1839 (9.1.1840), предусматривавшему проведение описей имуществ для исчисления доходности казённых имений в этих регионах, в течение 1842-56 с барщины на денежный оброк переведено 680 920 ревизских душ государственных крестьян, на барщинной повинности оставалось 26 937 душ (около 4% общего числа казённых крестьян в западных губерниях).
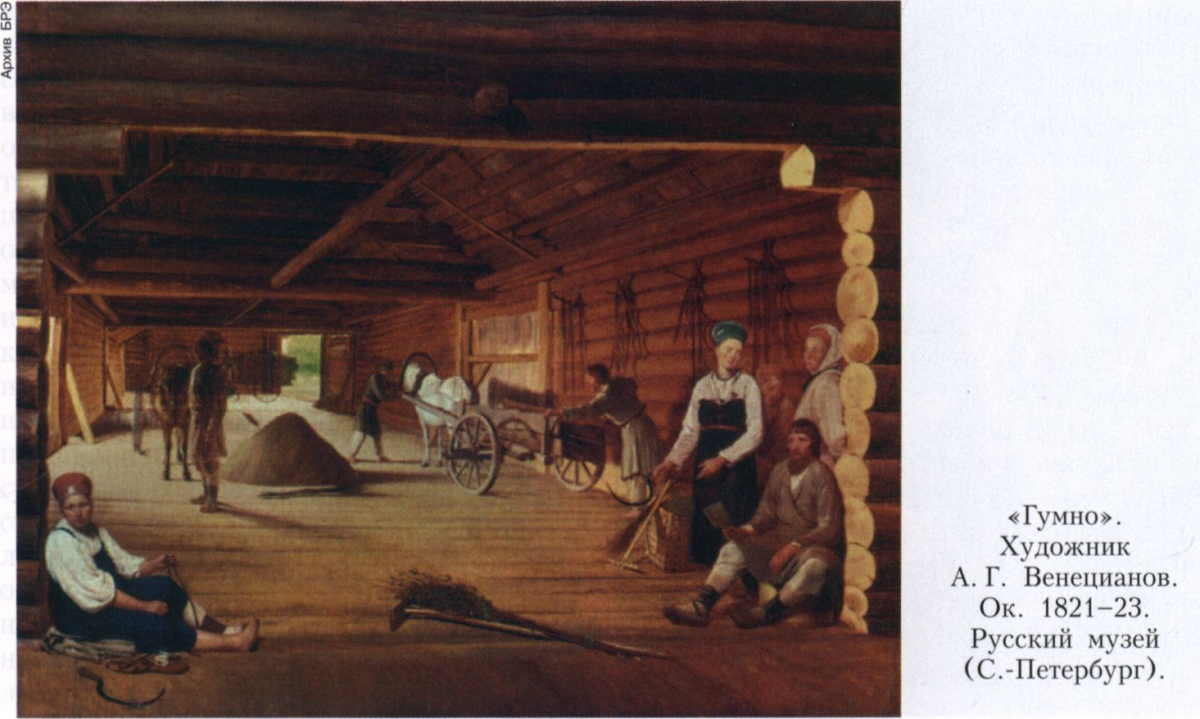 Статус частновладельческих помещичьих (крепостных) крестьян окончательно определился при Петре I в результате слияния двух форм феодального земле- и душевладения (поместья и вотчины), а также с ликвидацией в начале 18 века кабального холопства. В 18 веке увеличилась численность крепостных крестьян за счёт закрепощения различных групп податного населения, за время между 1-й (1719-1724) и 10-й (1858) ревизиями она возросла в 3,6 раза, однако доля крепостных крестьян по отношению ко всему крестьянству сократилась с 58,2 до 52,4%. При абсолютном приросте крепостного крестьянства его относительное сокращение происходило за счёт перехода в другие сословия (1017,4 тысяч душ мужского пола крепостных крестьян в 1816-58), бегства на окраины страны, а также вследствие рекрутских наборов. Основная масса крепостных крестьян приходилась на центральные, западные и украинские губернии (крепостничество на Украине установилось в середине - 2-й половине 18 века в результате захвата войсковой старшиной основной массы земель с последовавшим в 1783-85 распространением на старшину прав российского дворянства), где они составляли от 50 до 70% населения. В северных и южных (степных) губерниях крепостные крестьяне составляли от 2 до 12%. Крепостных крестьян не было в Архангельской губернии; в Сибири их насчитывалось всего 4,3 тысяч душ мужского пола.
Статус частновладельческих помещичьих (крепостных) крестьян окончательно определился при Петре I в результате слияния двух форм феодального земле- и душевладения (поместья и вотчины), а также с ликвидацией в начале 18 века кабального холопства. В 18 веке увеличилась численность крепостных крестьян за счёт закрепощения различных групп податного населения, за время между 1-й (1719-1724) и 10-й (1858) ревизиями она возросла в 3,6 раза, однако доля крепостных крестьян по отношению ко всему крестьянству сократилась с 58,2 до 52,4%. При абсолютном приросте крепостного крестьянства его относительное сокращение происходило за счёт перехода в другие сословия (1017,4 тысяч душ мужского пола крепостных крестьян в 1816-58), бегства на окраины страны, а также вследствие рекрутских наборов. Основная масса крепостных крестьян приходилась на центральные, западные и украинские губернии (крепостничество на Украине установилось в середине - 2-й половине 18 века в результате захвата войсковой старшиной основной массы земель с последовавшим в 1783-85 распространением на старшину прав российского дворянства), где они составляли от 50 до 70% населения. В северных и южных (степных) губерниях крепостные крестьяне составляли от 2 до 12%. Крепостных крестьян не было в Архангельской губернии; в Сибири их насчитывалось всего 4,3 тысяч душ мужского пола.
С середины 18 века в составе крепостных крестьян заметно возрастала численность дворовых: 362 тысячи душ обоего пола (1737), 915 тысяч душ (1835), 1467 тысяч душ (1858). Они использовались в помещичьих имениях не только в качестве прислуги, но и привлекались к земледелию, торговле, промыслам. Иногда им выделялись земельные угодья и огороды, скот, хозяйственные и жилые постройки, выдавалось денежное жалованье. Преимущественно из дворовых формировалась «крепостная интеллигенция»: крепостные актёры, музыканты, художники.
Особую (хотя и небольшую по численности) категорию в помещичьих имениях составляли крепостные крепостных крестьян (купленные зажиточными крестьянами на имя своего помещика). Крепостные крепостных использовались на сельскохозяйственных и других работах купивших их крестьян, исполняли за них барщину, посылались на заработки. Так, известные фабриканты села Иваново Шуйского уезда Владимирской губернии Грачёвы в 1835 имели 210 душ мужского и 214 душ женского пола, купленных ещё в конце 18 века на имя помещика. Грачёвы использовали их труд на своих фабриках. За купленных на имя помещика крепостных их новый владелец обязан был нести все государственные повинности. В случае нарушения этого обязательства или издевательства над купленными крепостными вотчинная администрация или сельский мир могли отобрать у владельца этих крестьян.
 Разряд удельных крестьян образован «Учреждением об императорской фамилии» 1797 года, которое передало дворцовых крестьян в Департамент уделов (с 1826 Министерство императорского двора и уделов). В 1800, по официальным данным, удельных крестьян насчитывалось 464 тысячи, а в 1858 - 826 тысяч душ мужского пола. Их численность увеличивалась как за счёт естественного прироста, так и покупки крестьян у помещиков, перевода в удел казённых крестьян. В начале 19 века удельные крестьяне находились в 37 губерниях. В 1835 проведён так называемый симбирский обмен - перевод 200 тысяч душ мужского пола государственных крестьян Симбирской губернии в разряд удельных. Одновременно в разряд государственных крестьян было переведено такое же число удельных крестьян в 19 губерниях. Удельные крестьяне с этого времени были сосредоточены в 18 губерниях, причём почти половина в Среднем Поволжье. По своему правовому статусу удельные крестьяне занимали «промежуточное» положение между помещичьими и государственными крестьянами и находились в том же отношении к императорской фамилии, как и помещичьи к помещикам. В составе удельных крестьян были «государевы» (принадлежавшие самому императору) и «конюшенные» (приписанные к конюшенному ведомству императорского двора).
Разряд удельных крестьян образован «Учреждением об императорской фамилии» 1797 года, которое передало дворцовых крестьян в Департамент уделов (с 1826 Министерство императорского двора и уделов). В 1800, по официальным данным, удельных крестьян насчитывалось 464 тысячи, а в 1858 - 826 тысяч душ мужского пола. Их численность увеличивалась как за счёт естественного прироста, так и покупки крестьян у помещиков, перевода в удел казённых крестьян. В начале 19 века удельные крестьяне находились в 37 губерниях. В 1835 проведён так называемый симбирский обмен - перевод 200 тысяч душ мужского пола государственных крестьян Симбирской губернии в разряд удельных. Одновременно в разряд государственных крестьян было переведено такое же число удельных крестьян в 19 губерниях. Удельные крестьяне с этого времени были сосредоточены в 18 губерниях, причём почти половина в Среднем Поволжье. По своему правовому статусу удельные крестьяне занимали «промежуточное» положение между помещичьими и государственными крестьянами и находились в том же отношении к императорской фамилии, как и помещичьи к помещикам. В составе удельных крестьян были «государевы» (принадлежавшие самому императору) и «конюшенные» (приписанные к конюшенному ведомству императорского двора).
В 18 - 1-й половине 19 века крестьянские наделы как сокращались вследствие естественного прироста населения, наступления на крестьянские наделы помещиков и удельного ведомства, так и увеличивались за счёт переселений, ликвидации барской запашки при переводе крестьянства на оброк, расширения полевых угодий путём распашки пустошей, расчистки лесов, освоения целины и пр. По данным И. Д. Ковальченко, исследовавшего состояние помещичьей деревни в 32 уездах 11 губерний, в 11 уездах наделы увеличились на 3-44%, а в 21 уезде уменьшились на 3,5-48%. По данным описаний помещичьих имений 1858, надел помещичьих крестьян центральных губерний в среднем на одну ревизскую душу составлял 3,7 десятин (4,04 га). В удельной деревне, по данным Л. Р. Горланова, за период с 1797 по 1863 среднедушевой надел сократился с 4,2 до 3,45 десятин (с 4,59 до 3,77 га). В государственной деревне, по данным Н. М. Дружинина, в результате проведения Киселёва реформы 1837-41 в 8 губерниях наделы увеличились, в 8 уменьшились, а в 5 губерниях остались без изменения. Размеры наделов государственных крестьян составляли (в разных губерниях) 2,3-11,4 десятины (2,51-12,45 га) на одну ревизскую душу.
Земля отводилась в надел, как правило, не подворно, а общине. Затем уже каждому двору по количеству в нём ревизских душ или тягол выделялся причитавшийся ему надел. В связи с изменением состава семей и соответственно размеров повинностей происходило периодическое перераспределение надельной земли. К середине 19 века удельный вес общинного землепользования составлял в целом по России 80%, при этом в центральных её губерниях - 96%, в южных степных - 80-90%. Лишь в западных губерниях преобладало подворное землепользование, доля которого составляла: 61% в белорусских губерниях, 67% на Левобережной Украине, 86% на Правобережной Украине.
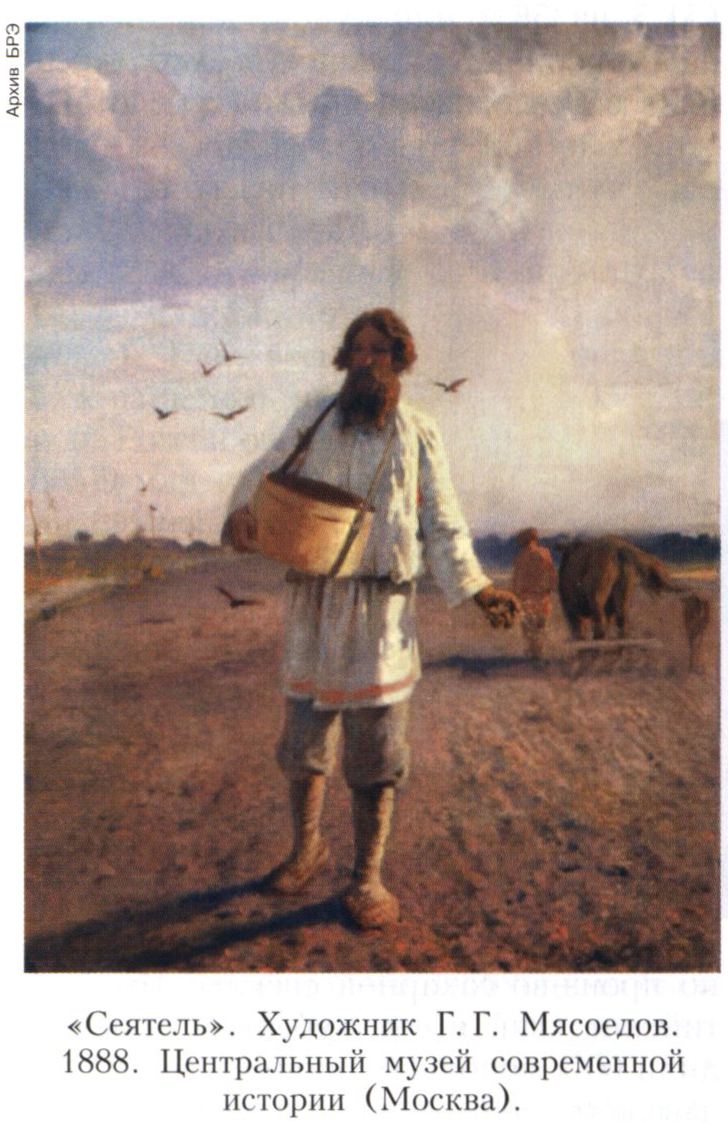 Владение землёй долгое время являлось монопольным правом дворянства. Лишь указ императора Александра I от 12(24).12.1801 предоставил право приобретать незаселённые земли в собственность и недворянским сословиям: купцам, мещанам, государственным крестьянам. Помещичьи и удельные крестьяне получили такое право по указу императора Николая I от 3(15).3.1848. Начало формироваться крестьянское частное землевладение. Покупные земли, в отличие от надельных, не подвергались обложению, на них не распространялись ни передел, ни принудительный севооборот. Однако записанные за помещиками купленные их крестьянами земли не были обеспечены правовой защитой. Этим воспользовались многие помещики во время проведения реформы 1861, объявив эти земли своими. В 18 - начале 19 века по-прежнему имела место и аренда крестьянами земель. Объектом аренды являлись оставшиеся после наделения крестьян помещичьи угодья, а также надельные и покупные земли самих крестьян. Зажиточные крестьяне стремились арендой расширить своё хозяйство в предпринимательских целях. Аренда земли бедными крестьянами преследовала всецело продовольственные цели, преобладала она в малоземельных имениях и обычно сопровождалась кабальными условиями.
Владение землёй долгое время являлось монопольным правом дворянства. Лишь указ императора Александра I от 12(24).12.1801 предоставил право приобретать незаселённые земли в собственность и недворянским сословиям: купцам, мещанам, государственным крестьянам. Помещичьи и удельные крестьяне получили такое право по указу императора Николая I от 3(15).3.1848. Начало формироваться крестьянское частное землевладение. Покупные земли, в отличие от надельных, не подвергались обложению, на них не распространялись ни передел, ни принудительный севооборот. Однако записанные за помещиками купленные их крестьянами земли не были обеспечены правовой защитой. Этим воспользовались многие помещики во время проведения реформы 1861, объявив эти земли своими. В 18 - начале 19 века по-прежнему имела место и аренда крестьянами земель. Объектом аренды являлись оставшиеся после наделения крестьян помещичьи угодья, а также надельные и покупные земли самих крестьян. Зажиточные крестьяне стремились арендой расширить своё хозяйство в предпринимательских целях. Аренда земли бедными крестьянами преследовала всецело продовольственные цели, преобладала она в малоземельных имениях и обычно сопровождалась кабальными условиями.
В 18 - 1-й половине 19 века в центральных районах страны господствовала сложная система земледелия, в которой традиционное трёхполье (яровое - озимое - пар) на ближних к деревне удобряемых полях дополнялось периодическим запуском части пахотных земель в залежь, когда после снятия нескольких урожаев землю оставляли на 10 лет и более без обработки для восстановления её плодородия. При обилии лесных угодий вплоть до начала 20 века практиковалась подсечно-огневая система земледелия в соединении с трёхпольем. По мере роста населения и сокращения резервов свободной земли севооборот всё больше приближался к правильному трёхпольному. При вспашке вплоть до начала 20 века повсеместно в крестьянском хозяйстве применялась соха, приспособленная к разным почвам и видам полевых работ в различных местностях. В южных губерниях, где в качестве тягловой силы использовались волы, широкое распространение получил плуг. Для рыхления пашни применялись также разного вида бороны, изготавливаемые из твёрдых пород дерева. Традиционными орудиями уборки и обработки урожая служили коса, серп и цеп. В 1-й половине 19 века не только в помещичьем, но и в крестьянском хозяйстве начали применяться, хотя и в ограниченном количестве, молотилки, веялки, льномялки, соломорезки и другие несложные машины, которые обычно изготовляли сами крестьяне-умельцы. Среди сельскохозяйственных культур преобладали «серые» хлеба: озимая рожь, овёс, ячмень. Рожь занимала более половины посевов зерновых и была главной продовольственной культурой. Среди яровых первенствовал овёс (1/3 посевного клина) - основная фуражная культура. За ним следовал ячмень. Гречиха и горох вместе составляли от 8 до 12% посевов. В 18 веке в центрально-чернозёмных губерниях, Среднем Поволжье и южной степной полосе стали внедряться посевы пшеницы, которая в 1-й половине 19 века в этих регионах занимала уже значительный объём. В 18 веке урожайность в центрально-нечернозёмных губерниях - сам-2, сам-3, в чернозёмных - сам-3, сам-4. В 1-й половине 19 века средняя урожайность составляла: сам-3,23 (1802-11), сам-3,2 (1841-50), сам-3,1 (1851-60). Рост производства хлебов происходил не за счёт интенсификации сельскохозяйственного производства, а за счёт расширения площади посевов: в 1802-60 посевная площадь увеличилась на 53% - с 38 до 58 миллионов десятин (с 41,5 до 63,36 миллионов га), а валовые сборы хлебов - со 155 до 220 миллионов четвертей (в среднем по 8 пудов в 1 четверти), или с 77,5 до 110 тысяч тонн. В 1840-х годах в центральных и западных губерниях резко увеличились посевы картофеля, который из огородной культуры превратился в полевую, к концу 19 века им было занято свыше 1,5 миллиона гектар (картофель известен в России со 2-й половины 17 века, широко внедрялся после указа Сената 1765 и завоза из-за границы партии семенного картофеля, разосланного по стране). На Украине существенно выросли посевы сахарной свёклы. Среднегодовые сборы зерна в Европейской России на душу населения составляли: 22,48 пуда (около 368 кг) (1802-11), 21,44 пуда (около 351 кг) (1841-50), 20,64 пуда (около 338 кг) (1851-60); картофеля - 2,4 пуда (свыше 39 кг) (1841-50), 2,16 пуда (свыше 35 кг) (1851-60).
В конце 18 - начале 19 века формировались регионы, очаги и центры товарного земледелия. Центрально-чернозёмные, степные, средне- и нижневолжские губернии становились основными производителями товарного хлеба. В центрально-нечернозёмных губерниях заметно увеличились площади под техническими и огородными культурами. Во Владимирской, Костромской и Ярославской губерниях производство льноволокна за 1-ю половину 19 века возросло в 5 раз. Значительные размеры приобрело торговое коноплеводство в Калужской и Нижегородской губерниях. Крупным центром торгового огородничества был Ростовский уезд Ярославской губернии (на плодородных пойменных землях близ озера Неро выведены новые сорта овощей, выращивалось до 500 видов лекарственных растений). Продукция ростовских огородников шла не только на внутренний, но и на внешний рынок. В Богородском и Бронницком уездах Московской губернии сложился район торгового хмелеводства, которым занимались 142 селения. В Московской, Ярославской, Тверской и Нижегородской губерниях возникли очаги товарного луководства, птицеводства, мясомолочного хозяйства. Для крестьянского хозяйства 18 - 1-й половины 19 века по-прежнему было характерно соединение земледелия с различными промысловыми занятиями. Наиболее широко мелкая крестьянская промышленность была распространена в центрально-нечернозёмных губерниях. Земледелие практически отсутствовало в крупных торгово-промышленных сёлах - Иванове и Мстёре Владимирской губернии, Вичуге, Середе, Сидоровском и Красном Костромской губернии, Павлове, Ворсме, Большом Мурашкине и Богородском Нижегородской губернии, Кимрах Тверской губернии, Уломе Новгородской губернии. Эти сёла стали центрами текстильной, кожевенной, металлообрабатывающей и деревообрабатывающей промышленности. Крестьяне этих сёл сдавали свою полевую землю в аренду соседним селениям. Характерно, что крестьянские промыслы получили развитие преимущественно в крепостной, а не в государственной деревне. Почти все указанные торгово-промышленные селения принадлежали крупным помещикам (Шереметевым, Голицыным, Юсуповым, Паниным), знатность, привилегии и влияние которых обеспечивали их крестьянам защиту от вмешательства государства и своеобразное «покровительство» в промыслах. В крепостной промысловой деревне уже в конце 18 – начале 19 века выделились представители будущей промышленной буржуазии: династии фабрикантов Морозовых, Гучковых, Гарелиных, Гандуриных и др. вышли из крепостных крестьян. В 1-й четверти 19 века крестьяне наиболее активно пополняли состав буржуазии.
В промысловый отход крестьян на заработки в 1760-х годах в центрально-нечернозёмных губерниях уходило от 6 до 24% мужского населения, в центрально-чернозёмных - 2-4%. В конце 18 века из Ярославской, Костромской и Московской губерний на заработки уходило 15-23% мужского населения, в середине 19 века - до 30-40%. Деревня являлась основным источником роста городского населения. В середине 19 века к крестьянскому сословию относились 52% жителей Санкт-Петербурга и 58% жителей Москвы (преимущественно находившиеся на заработках отходники, а также многочисленные дворовые в господских домах).
 В центрально-нечернозёмных губерниях, с их менее благоприятными почвенно-климатическими условиями и развитием уже в 18 веке разнообразных ремесленных занятий, помещики предпочитали отпускать своих крестьян на оброк. В то же время в центрально-чернозёмных, белорусских и украинских губерниях помещики считали для себя более выгодным практиковать барщину, расширяя барскую запашку для производства хлеба на продажу. И в оброчных, и в барщинных имениях крестьяне, как правило, несли множество дополнительных натуральных повинностей.
В центрально-нечернозёмных губерниях, с их менее благоприятными почвенно-климатическими условиями и развитием уже в 18 веке разнообразных ремесленных занятий, помещики предпочитали отпускать своих крестьян на оброк. В то же время в центрально-чернозёмных, белорусских и украинских губерниях помещики считали для себя более выгодным практиковать барщину, расширяя барскую запашку для производства хлеба на продажу. И в оброчных, и в барщинных имениях крестьяне, как правило, несли множество дополнительных натуральных повинностей.
В 1-й половине 19 века в целом по России доля барщинных крестьян не только не уменьшилась, но даже увеличилась с 56% до 71,5%. В центрально-чернозёмных губерниях на барщине находилось 73-80% крепостных крестьян, а в белорусских и украинских губерниях - 92-99%. В то же время в центрально-нечернозёмных губерниях 67,5% крестьян находилось на оброке. При этом в губерниях высокого неземледельческого отхода (Ярославской и Костромской) доля оброчных крестьян составляла около 90%. Разновидностью барщины и одним из средств её интенсификации являлась месячина (плата натурой в виде месячного продовольственного пайка, который выдавался крепостным крестьянам, лишённым земельных наделов и обязанным всё рабочее время находиться на барщине). Размеры оброка помещичьих крестьян возрастали: 1-2 рубля с ревизской души (1760-е годы), 2-3 рубля (1770-е годы), 4 рубля (1780-е годы), 5 рублей (1790-е годы). При императоре Павле I средний оброк составлял 6 рублей с души, к 1805 он возрос до 12- 15 рублей. Это обусловливалось не только развитием неземледельческих промыслов крестьян и, следовательно, ростом доходности крестьянского хозяйства, но и ростом цен, которые за указанный период поднялись более чем в 3 раза. Возросла и цена ревизской души: в 1760-х годах она составляла 30 рублей, в 1780-х годах - 80 рублей, в 1790-х годах - 200 рублей. В 1813 казённая такса за 1 душу составила 200 рублей, в 1833 - 300 рублей (цена женской души обычно составляла половину мужской). Ещё в начале 18 века было отмечено развитие смешанной формы повинности - соединение барщины с оброком. Но широкое распространение она получила в 1-й половине 19 века и преимущественно в центрально-нечернозёмных губерниях в связи с ростом в них промысловых занятий крестьянства. К середине 19 века доля крестьян, выполнявших смешанную повинность, составляла (в %): в Калужской губернии - 23, Нижегородской - 25, Костромской - 21, Московской - 30, Тверской - 33, Ярославской - 32; в некоторых уездах этих губерний на смешанной повинности находилось до 2/3 крестьян: в Макарьевском уезде Костромской губернии - 61, в Верейском и Волоколамском уездах Московской губернии - 60 и 61, в Горбатовском уезде Нижегородской губернии - 65, в Мологском уезде Ярославской губернии - 67. Вплоть до отмены крепостного права в оброчных и барщинных имениях существовал и натуральный оброк, так называемые добавочные сборы: взимались хлеб, скот, птица, масло, яйца, шерсть, лён, грибы, ягоды, иногда овчины, а также сено, солома, дрова, мочало, лес. Этот натуральный оброк предназначался не только для удовлетворения повседневных потребностей помещика, но иногда и реализовывался им на рынке.
 Государственные и удельные крестьяне помимо подушной подати платили оброк. Для государственных крестьян он был установлен в размере половины подушной подати: в 1719 - 40 копеек, в 1760 - 1 рубль, в 1768 - 2 рубля, в 1783 - 3 рубля; в 1797 в зависимости от качества земли установлено 4 категории оброка: 5 рублей 10 копеек, 4 рубля 59 копеек, 4 рубля 8 копеек и 3 рубля 57 копеек. В 1810 оброк по 4 категориям государственных крестьян был установлен соответственно 8 рублей, 7 рублей, 6 рублей и 5 рублей 50 копеек. В 1810 по всем этим категориям оброк был увеличен на 3 рубля. В 1839 размер оброка государственных крестьян в зависимости от категории плательщиков составлял от 9 рублей 91 копейки до 7 рублей 53 копеек. Размер оброка с ревизской души удельных крестьян составлял: в 1800 - 1 рубль 28 копеек серебром, в 1834 - 2 рубля 58 копеек, в 1858 - 3 рубля 54 копейки. Все категории крестьянства, кроме уплаты подушной подати и оброка, несли многочисленные денежные и натуральные (дорожная, мостовая и пр.) повинности. Наиболее тяжёлой была рекрутская повинность. Со времени её введения до манифеста о вступлении императора Александра II на престол взято со всего податного населения, но в основном с крестьянства, 5157,3 тысяч рекрутов. Тяжёлым бременем на крестьянство ложились различные косвенные налоги (в том числе на соль и водку), сбор которых отдавался на откуп.
Государственные и удельные крестьяне помимо подушной подати платили оброк. Для государственных крестьян он был установлен в размере половины подушной подати: в 1719 - 40 копеек, в 1760 - 1 рубль, в 1768 - 2 рубля, в 1783 - 3 рубля; в 1797 в зависимости от качества земли установлено 4 категории оброка: 5 рублей 10 копеек, 4 рубля 59 копеек, 4 рубля 8 копеек и 3 рубля 57 копеек. В 1810 оброк по 4 категориям государственных крестьян был установлен соответственно 8 рублей, 7 рублей, 6 рублей и 5 рублей 50 копеек. В 1810 по всем этим категориям оброк был увеличен на 3 рубля. В 1839 размер оброка государственных крестьян в зависимости от категории плательщиков составлял от 9 рублей 91 копейки до 7 рублей 53 копеек. Размер оброка с ревизской души удельных крестьян составлял: в 1800 - 1 рубль 28 копеек серебром, в 1834 - 2 рубля 58 копеек, в 1858 - 3 рубля 54 копейки. Все категории крестьянства, кроме уплаты подушной подати и оброка, несли многочисленные денежные и натуральные (дорожная, мостовая и пр.) повинности. Наиболее тяжёлой была рекрутская повинность. Со времени её введения до манифеста о вступлении императора Александра II на престол взято со всего податного населения, но в основном с крестьянства, 5157,3 тысяч рекрутов. Тяжёлым бременем на крестьянство ложились различные косвенные налоги (в том числе на соль и водку), сбор которых отдавался на откуп.
1861-1917. Отмена крепостного права в ходе реализации крестьянской реформы 1861 и модернизация страны на капиталистической основе коренным образом изменили положение крестьянства. Бывшие помещичьи крестьяне перестали быть собственностью своих хозяев и получили гражданские права: могли покупать на своё имя землю и другую недвижимость, заключать финансовые и торговые сделки, открывать промышленные и иные заведения, решать общественные вопросы на сельском сходе. Законы о поземельном устройстве удельных [26.6(8.7).1863] и государственных [24.11(6.12).1866] крестьян, также получивших в собственность свои наделы, уравняли в правах основные категории крестьянства. Реформы 1860-х годов, сохранив общину в тех местностях, где она существовала, ввели единую систему крестьянского самоуправления для всего крестьянства (ранее была у государственных и удельных крестьян). С 1864 крестьяне участвовали в выборах гласных земских собраний, могли избираться в состав земских управ.
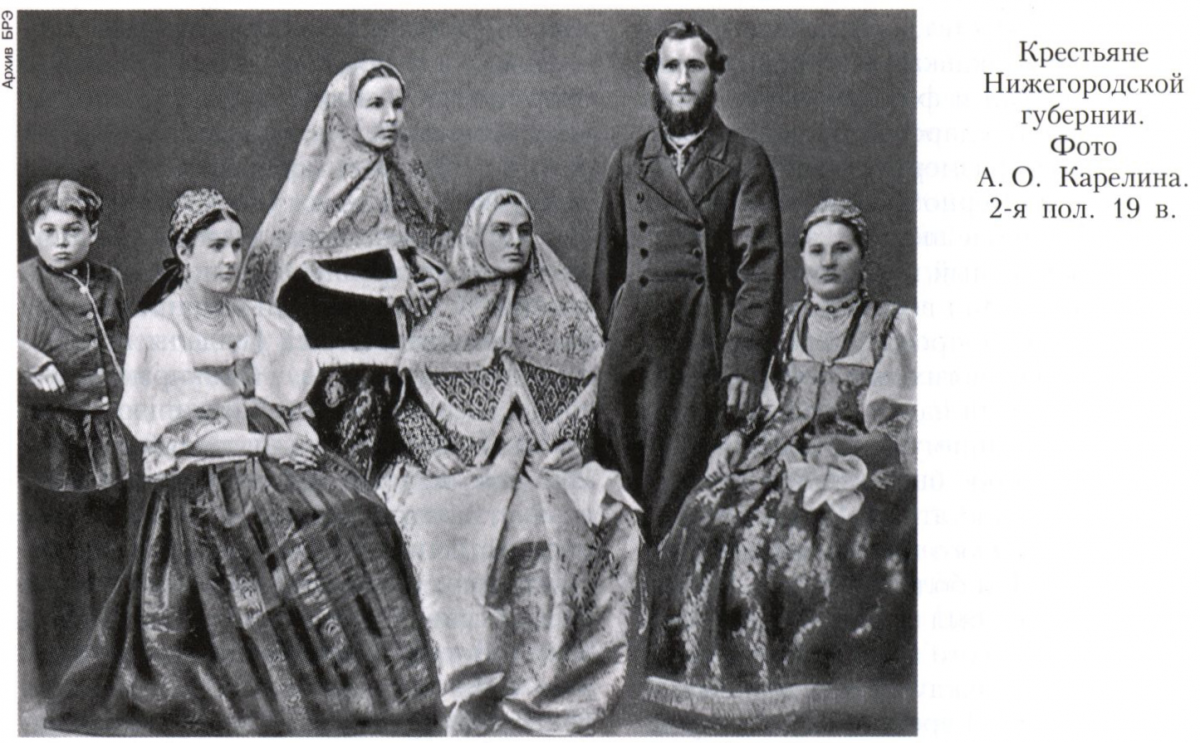 Вместе с тем крестьянство до 1906 оставалось неполноправным сословием. Крестьяне находились, с одной стороны, в экономической и юридической зависимости от своих сельских обществ, с другой - под жёсткой опекой местных административных властей, которые через сельских и волостных должностных лиц контролировали всю жизнь деревни. Отход крестьян на заработки допускался с согласия сельского общества и требовал оформления паспорта. Внутриобщинные отношения продолжали регулироваться главным образом обычным правом. Наделы передавались в общинную собственность, а процесс осуществления выкупной операции, по завершении которой сельские общества становились юридическими владельцами земли, растянулся до начала 20 века. Крестьянство было ограничено в правах на государственную службу.
Вместе с тем крестьянство до 1906 оставалось неполноправным сословием. Крестьяне находились, с одной стороны, в экономической и юридической зависимости от своих сельских обществ, с другой - под жёсткой опекой местных административных властей, которые через сельских и волостных должностных лиц контролировали всю жизнь деревни. Отход крестьян на заработки допускался с согласия сельского общества и требовал оформления паспорта. Внутриобщинные отношения продолжали регулироваться главным образом обычным правом. Наделы передавались в общинную собственность, а процесс осуществления выкупной операции, по завершении которой сельские общества становились юридическими владельцами земли, растянулся до начала 20 века. Крестьянство было ограничено в правах на государственную службу.
В результате снижения смертности значительно ускорился рост сельского населения в стране, его среднегодовой естественный прирост в 1860-1910 составил 13,9%, самым высоким в начале 20 века он был на Северном Кавказе и в Западной Сибири (22,3%), в Новороссии (20,3%), несколько выше среднего - в Европейской России (16,2%). Ниже прирост был в Средней Азии (12,8%), Прибалтике (6,9%), Закавказье (3,8%). Снижение смертности было обусловлено улучшением условий жизни крестьянства, развитием торговых связей между регионами (что уменьшало или сводило на нет влияние местных недородов хлеба), успехами земской медицины и сокращением сроков военной службы после введения всеобщей воинской повинности (1874) при реализации военных реформ 1860-70-х годов. Высокая рождаемость при низкой средней продолжительности жизни (34 года) привела к подавляющему преобладанию в среде крестьянства молодых людей работоспособного возраста: дети до 14 лет составляли 33% населения, лица от 14 до 60 лет - 60%, старше 60 лет - 7%.
Смертность и рождаемость в сельской местности были значительно выше, чем в городах. Поскольку часть крестьянства переселялась в города, доля сельского населения постоянно снижалась: 90,8% (1860), 87,5% (1897), 85,7% (1914). Но абсолютный прирост сельского населения происходил очень быстро. Со 2-й половины 19 века развивалось переселенчество крестьянства из центра Европейской России. В 1871-95 миграция крестьян из центральных губерний составила 3815,4 тысяч человек (106 тысяч человек в год), в 1896-1916 - 5227,6 тысяч человек (248 тысяч человек в год). Наиболее высокими темпами росло сельское население Предкавказья и Новороссии, куда направлялся основной поток переселенцев в 1860-80-е годы. В эти же годы активно, но несколько медленнее шла миграция населения в Бессарабию, Нижнее Поволжье и Южное Приуралье. С 1890-х годов после вложения огромных государственных средств в строительство железных дорог (Транссибирской магистрали, Оренбург - Ташкент и Красноводск - Ташкент) главными направлениями миграции стали Сибирь, Степной край и Средняя Азия. В начале 20 века средний чистый прирост сельского населения Европейской России превышал 2 миллиона человек в год, что было выше уровня переселения. Доля крестьянства Европейской России в 1858-1914 снизилась с 85% до 79%, соответственно увеличилась доля сельского населения колонизуемых окраин (с 15% до 21% от численности всего крестьянства страны).
Многие лица, по рождению принадлежавшие к сословию крестьян, фактически переставали быть ими. В 1897 в городах проживало свыше 7 миллионов крестьян (44% всех горожан), многие совсем потеряли связь с деревней, постоянно работали на фабриках, заводах, на строительстве и т.п. Всё возраставшую часть городского населения составляли отходники. В сельской местности далеко не все крестьяне занимались сельским хозяйством. По данным переписи 1897, в Европейской России из 82 миллионов сельских жители 12 миллионов человек (в 1905 - 17 миллионов человек) называли главным источником своего дохода промыслы, ремёсла, торговлю, извоз и другую деятельность.
В конце 19 века в России было около 525 тысяч сёл и деревень (в 1914 - около 548,5 тысяч), в том числе в Европейской России 511,5 тысяч (93%), в Сибири 14,6 тысяч (3%), в Средней Азии и Казахстане 9,5 тысяч (1,7%), на Кавказе 12,6 тысяч (2,3%). На окраинах сельские поселения были в среднем более крупными: в Средней Азии по 885 человек, на Кавказе по 671 человеку, в Сибири по 418 человек. В Европейской России в среднем на одно поселение приходился 171 человек. При этом в Центральном Черноземье в поселениях в среднем было по 104 двора (около 570 человек), в Центральном Нечерноземье - по 35 дворов (190 человек). На Юге Европейской России и в Поволжье нередкими были сёла, насчитывавшие 1-5 тысяч человек, на Европейском Севере и в Прибалтике - 10-20 человек.
Крестьянский двор оставался основной хозяйственной единицей как в общинной, так и в подворной деревне. На протяжении всего пореформенного периода и особенно в начале 20 века увеличивалось число семейных разделов, несмотря на противодействие правительства (по закону 1886 для раздела требовалось согласие 2/3 сельского схода). Причиной было стремление молодых пар, и особенно невесток, избежать раздоров на экономической и бытовой почве, что было связано с изменением социальной психологии крестьянства, а также с усложнением хозяйственной жизни. Всё имущество двора было общим, но продолжала существовать по нормам обычного права беспрекословная власть домохозяина над членами большой семьи. Это стало вызывать недовольство молодых семей и ссоры. В 1870-х годах в Европейской России двор насчитывал в среднем около 7 человек, в 1897 - 6,4 человек, в 1917 - 6,2 человек (по 38 губерниям). В центре страны процесс деления дворов шёл быстрее.
В 1860-е годы крестьянские хозяйства производили 78% хлебов в России, в 1890-е годы - 85%, в начале 20 века - 88%, в 1917 - 92%. В производстве совокупного продукта земледелия и животноводства доля крестьянских хозяйств в начале 20 века составляла 92,4% (по стоимости). В 1913 сельское хозяйство приносило свыше 50% национального дохода России: по данным С. Г. Струмилина - 54%, по данным английского исследователя М. Фолкуса - 55,7%. По сведениям Всероссийской переписи населения 1897, 3/4 населения занималось сельским хозяйством. В начале 20 века в России проживало около 8% населения мира, она давала свыше 1/4 мирового производства хлебов, в том числе пшеницы 24,8% (знаменитой была твёрдая пшеница ныне утраченного сорта «Таганрог»), ржи 47,5%, ячменя 35,4%, кроме того, свыше 80% льна, 17% картофеля. Страна занимала 1-е место в мире по общему объёму сельскохозяйственной продукции.
В 1860-х годах в основных районах земледелия (29 губерний Европейской России) в крестьянских хозяйствах посевы хлебов увеличились по сравнению с 1850-ми годами на 3%, посадки картофеля - на 31,9% (у помещиков посевы хлебов сократились на 11%, посадки картофеля остались на прежнем уровне, что привело к уменьшению совокупных посевов хлебов по этим губерниям). Крестьянские хозяйства легче, чем помещичьи, приспособились к новым условиям в первые пореформенные годы. В 1870-е годы посевы хлебов и картофеля выросли на 6%, в 1880-90-е годы - на 10,5%, в том числе хлебов на 6%, картофеля в 2,2 раза, что означало, с одной стороны, ухудшение питания крестьянства, с другой - улучшение агротехники (введение корнеплодов в посевы). Увеличение пашни произошло за счёт чернозёмной полосы, в нечернозёмной полосе производство хлебов сократилось при увеличении доходов от животноводства. Создание сети железных дорог, увеличение городского населения, рост спроса на сельскохозяйственные продукты на западноевропейском рынке вызвали повышение товарности крестьянского хозяйства.
В 1883-94 в связи с падением хлебных цен на западноевропейском рынке они снизились в России с 80 до 42 копеек за пуд. С середины 1890-х годов рост спроса на хлеб продолжился, что вызвало дальнейшее расширение посевов и сбора хлебов, но главным образом за счёт наиболее товарных культур - пшеницы, овса, ячменя. С 1880-х годов среднегодовые сборы зерновых с надельных земель росли медленнее, чем с частновладельческих (27% против 48,55%), но доля валовых сборов хлебов в крестьянских хозяйствах увеличивалась за счёт посевов на арендованных и купленных крестьянами землях. Средний чистый сбор зерновых вырос за 1880-е годы на 22%, за 1890-е годы на 23,2%, чистые сборы картофеля - на 22 и 100% соответственно. Повысилась производительность труда в земледелии: за 1860-70-е годы хлебные посевы расширились на 4%, а валовое производство хлебов на 19%; в 1880-90-е годы эти показатели составили 6 и 38% соответственно.
По регионам страны посевы и сборы хлебов росли неравномерно. В чернозёмной полосе происходило заметное смещение центра хлебного производства. В южных и юго-западных губерниях посевы увеличились на 69%, а в Центрально-чернозёмном районе сократились на 15,8%. В нечернозёмной полосе в 1870-90-е годы они увеличились в Прибалтике, с 1880-х годов - также в северных, западных и северо-западных районах. В Центрально-нечернозёмном районе посевы стали меньше дореформенного уровня. Таким образом, сокращение посевов произошло в обоих центральных районах, что привело к ухудшению положения крестьянства этих районов и получило в официальных кругах название «оскудение центра». По сравнению с концом 1860-х годов число производящих губерний (откуда хлеб вывозился) увеличилось к концу 19 века с 22 до 27, здесь проживало 60 миллионов человек, или 64% населения Европейской России; число потребляющих губерний (куда хлеб ввозился постоянно) уменьшилось с 16 до 13, а переходная группа, ввозившая хлеб только в неурожайные годы, сократилась с 12 до 10 губерний. Следовательно, падение хлебных цен на западноевропейском и российском рынках в 1880-е - 1-й половине 1890-х годов не остановило рост сельскохозяйственного производства в крестьянских хозяйствах, но понизило их доходность, что привело к разорению многих дворов.
Тяжело отражались на положении крестьянства неурожайные годы, особенно 1872, 1880 и 1891. В 1891 собран самый низкий урожай: недород коснулся 17 губерний из 50 в Европейской части страны, сбор был в среднем на 25% меньше среднегодовых сборов. В 1892 смертность в сельской местности превысила показатели предыдущих лет на 400 тысяч человек. В центральных губерниях разорились сотни тысяч крестьянских хозяйств и даже целые деревни. В этих районах в 1860-90-е годы снизились подушные сборы хлебов с надельных земель с 26 до 21 пуда, или с 425,8 до 344 кг. Но за счёт арендных и купчих земель, а также земель окраинных губерний Европейской части страны произошёл в среднем рост подушных сборов на 4% в 1860-1870-е годы и на 21,5% в 1880-90-е годы.
С середины 1890-х годов цены на сельскохозяйственные продукты стали неуклонно расти, что вызвало рост производства и благотворно сказалось на доходах крестьянских дворов в начале 20 века. Валовые среднегодовые сборы хлебов в 1900-04 составляли 3,5 миллиарда пудов (57,3 миллионов тонн), в 1909-13 - 4,9 миллиарда пудов (80,2 миллионов тонн), то есть увеличились в 1,4 раза, как за предыдущие 40 лет. Ещё более высокими темпами увеличивались сборы технических культур: в 1860-1900 в 5 раз, в 1900-13 в 2 раза. Среднегодовые сборы хлебов на душу населения составляли 28,5 пуда (455 кг) в 1901-10, 30 пудов (480,3 кг) в 1909-13. В 1913 в России собрано 5636,6 миллионов пудов (90,2 миллионов тонн), или по 34,4 пуда (550 кг) на душу населения, в том числе в Европейской России валовой сбор зерновых достиг 4262 миллиона пудов [69,8 миллионов тонн; в 1901-10 - 3208 миллионов пудов (52,5 миллионов тонн)], или 33 пуда (529,2 кг) на душу населения.
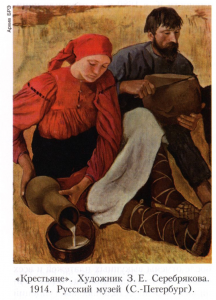 Более быстрыми темпами развивалось земледелие на южных и юго-восточных окраинах и в Азиатской части страны. Предкавказье в 1896-99 давало 4,65% общероссийских валовых сборов зерна, в 1913 - 8,6%. В Сибири, где не было помещиков и всё сельскохозяйственное производство было крестьянским, валовые среднегодовые сборы хлебов составляли 147,8 миллионов пудов (2,4 миллиона тонн) в 1901-05, 193,6 миллиона пудов (3,17 миллиона тонн) в 1906-10, 236,6 миллионов пудов (3,87 миллиона тонн) в 1911-15. В 1893-1913 действовал челябинский «тарифный перелом», удваивавший железнодорожный тариф для перевозки хлеба из Сибири с целью оградить товаропроизводителей Европейской России от конкуренции. Несмотря на это, богатые сибирские крестьяне вывозили в начале 20 века 50 миллионов пудов (819 тысяч тонн) высокосортной пшеницы. Вся Азиатская часть России в 1913 произвела 524 миллиона пудов (8,58 миллионов тонн), или 9% хлеба страны.
Более быстрыми темпами развивалось земледелие на южных и юго-восточных окраинах и в Азиатской части страны. Предкавказье в 1896-99 давало 4,65% общероссийских валовых сборов зерна, в 1913 - 8,6%. В Сибири, где не было помещиков и всё сельскохозяйственное производство было крестьянским, валовые среднегодовые сборы хлебов составляли 147,8 миллионов пудов (2,4 миллиона тонн) в 1901-05, 193,6 миллиона пудов (3,17 миллиона тонн) в 1906-10, 236,6 миллионов пудов (3,87 миллиона тонн) в 1911-15. В 1893-1913 действовал челябинский «тарифный перелом», удваивавший железнодорожный тариф для перевозки хлеба из Сибири с целью оградить товаропроизводителей Европейской России от конкуренции. Несмотря на это, богатые сибирские крестьяне вывозили в начале 20 века 50 миллионов пудов (819 тысяч тонн) высокосортной пшеницы. Вся Азиатская часть России в 1913 произвела 524 миллиона пудов (8,58 миллионов тонн), или 9% хлеба страны.
В зерновом производстве в конце 19 – начале 20 века продолжался рост удельного веса наиболее товарных культур. В Европейской России и Сибири увеличилась доля пшеницы. На Северном Кавказе наибольший удельный вес пшеницы отмечался в конце 19 века (свыше 56%), в начале 20 века доля пшеницы сокращалась из-за роста посевов ячменя, на который предъявляли спрос западноевропейские страны. Доля ржи во всех регионах уменьшилась, но в Европейской части страны она оставалась главной хлебной культурой (в 1911-15 - 32,1% посевов), в Сибири её доля стала в 2 раза меньше (15,8%), чем в центре, на Северном Кавказе - в 13 раз меньше (2,4%). Это объяснялось малонаселённостью двух последних регионов и, следовательно, небольшим внутренним спросом на рожь (на внешний рынок рожь поступала только из западных районов). Кроме того, на окраинах страны крестьянство было более зажиточным и больше употребляло в пищу белого хлеба, чем в центральных губерниях. В этом же была причина меньшей доли картофеля на окраинах (в 1911-1915 в Сибири 2,0%, на Северном Кавказе 1,0%, в Европейской России 3,7%). Площади, занятые под овёс, стабилизировались (в 1911-15 в Сибири 29,5%, на Северном Кавказе 6,1%, в Европейской России 18,2%). В начале пореформенного периода около 1/3 овса в крестьянских хозяйствах шло в пищу (крупа и толокно). В начале 20 века в связи с ростом цен на овёс крестьяне стали продавать его почти весь. По сравнению с 1870-ми годами в Европейской России в среднем доля посевов ржи к 1915 сократилась с 40 до 32%, гречихи - с 5,9 до 2,4%, увеличились посевы пшеницы с 16 до 24% и ячменя с 6,6 до 11%. Почти прекратились посевы полбы, весьма распространённые в середине 19 века в зажиточных крестьянских хозяйствах.
С 1880-х годов началась постепенная смена систем земледелия. До этого времени господствовало трёхполье. Введение парового поля способствовало уничтожению сорняков и накоплению в почве удобрений. Но к этому времени в Европейской России, за исключением окраин, были почти исчерпаны возможности расширения посевных площадей. Незначительный их рост шёл только в чернозёмной полосе и очень медленно, поскольку вырубка лесов и кустарников, осушение болот требовали много труда и средств, а распашка пастбищ и сенокосов отрицательно сказывалась на животноводстве. В 1900-1914 посевная площадь России выросла на 10,6 миллионов десятин (с 74,8 до 85,4 миллионов десятин, или с 81,7 до 93,3 миллионов га), в том числе в Европейской России на 6%, на Северном Кавказе на 47%, в Азиатской части России на 71%.
Сокращение возможностей экстенсивного земледелия заставляло зажиточное крестьянство переходить к введению посевов трав и кормовых культур, что повышало урожаи. Инициаторами плодосмена стали земские агрономы и грамотные крестьяне, читавшие специальную литературу. Сначала вводилось клеверное поле в 3-польную систему, затем устанавливалась 4-польная и многопольная система земледелия. Первоначально агрономические службы существовали в рамках уезда, в 1901 по инициативе А. Ф. Фортунатова на 1-м Всероссийском съезде деятелей агрономической помощи местному хозяйству решено перейти к разбивке уездов на отдельные участки в зависимости от природных условий. К 1914 участковые агрономы были во всех губерниях, заведуя в среднем 2-3 волостями. Земства ввели в каждом уезде опытные поля или участки, закупали зерноочистительные машины для передачи в пользование крестьянам, устраивали пункты проката новых сельскохозяйственных машин, проводили их показательную работу, содержали случные пункты для распространения улучшенных пород скота, издавали дешёвую агрономическую литературу. Особенно эта деятельность получила широкий размах и государственную денежную помощь в период проведения столыпинской аграрной реформы.
В конце 19 - начале 20 века быстро увеличивалось применение машин и улучшенных орудий в сельском хозяйстве, их главными покупателями стали крестьяне. В 1870-х годах ежегодный ввоз и производство в России сельскохозяйственных машин оценивались в 2,3 миллиона рублей, в 1890 - в 5 миллионов, в 1896 - в 19 миллионов, в 1906 - в 38 миллионов, в 1912 - в 131,1 миллиона рублей (в том числе производство составляло 67,5 миллионов рублей). В 1890-1912 ежегодное приобретение машин и орудий увеличилось в 26 раз, не считая покупки изделий, выпущенных мелкими и средними предприятиями, а также изделий, изготовленных в рамках промыслов. Последние были довольно сложными машинами высокого качества, что отмечалось на многих сельскохозяйственных выставках.
Всероссийская перепись сельскохозяйственных орудий 1910 года, охватившая 90 губерний и областей, показала, что крестьянство больше всего (по стоимости) покупало машины для наиболее трудоёмких работ - уборки хлеба, сенокоса (жатки, сноповязалки, конные косилки и пр.), которые были довольно дороги (100-550 рублей). Это объяснялось короткими сроками сельскохозяйственных работ и возрастанием цен на рабочие руки. Перепись 1910 показала, что дорогие машины были в основном в хозяйствах зажиточных крестьян, у бедняков кроме сох и деревянных борон изредка встречались железные плуги. Неравномерно распределялись орудия и по районам. Из каждых 100 орудий в Европейской России 51 было усовершенствованное, в Сибири - 77. По данным сельскохозяйственной переписи 1917, крестьянские хозяйства в среднем на 100 десятин (109,2 га) посева имели 4,2 орудия и были обеспечены сложными машинами хуже помещичьих (5,6 орудия). Плугами были лучше обеспечены крестьяне (13,1 против 6,8 у помещиков), но помещики имели больше жаток и косилок.
Урожайность хлебов и картофеля в Европейской России за 1860-1910 увеличилась в среднем от сам-3,5 до сам-5. Это было результатом повышения агротехнического уровня сельского хозяйства, а также вовлечения в оборот более производительных земель на окраинах. Среднегодовые чистые урожаи на надельных землях были ниже, чем на частновладельческих.
На частновладельческих (крестьянских и помещичьих) землях урожаи росли быстрее, чем на надельных, и разрыв в 1861-1910 увеличился с 4 до 11 пудов (с 65,5 до 182,2 кг) с 1 десятины (1,09 га). В 1861 частновладельческие земли были главным образом помещичьими, в начале 20 века положение резко изменилось. В 22 центральных губерниях 47% посевов на частновладельческих землях (купленных и арендованных) принадлежало крестьянам. В 1917 в 35 губерниях Европейской России 34% посевов находилось на частных землях, из них 8,4% - на помещичьих. Большинство частновладельческих посевов были крестьянскими, но принадлежали главным образом зажиточным крестьянам.
Средние урожаи в России были близки к урожаям в странах с экстенсивным характером земледелия. Урожаи в США, где в начале 20 века ещё были свободные земли, ненамного превышали российские, а в Австралии были ниже. В группе основных производителей хлеба с интенсивным характером земледелия (Австрия, Франция) урожаи были в 1,5 раза, в Германии в 2,5 раза выше, чем в России. При этом отмечается прямая зависимость урожаев от степени интенсификации хозяйства. В Европейской России приходилось 6,9 кг минеральных удобрений на 1 га посевов, во Франции - 57,6 кг, в Германии - 166 кг.
Большое влияние на урожайность оказывали природные условия. В Западной Европе и США период от сева до уборки был в 1,5 раза больше, чем в России, норма осадков в 2-2,5 раза выше, почти не было заморозков, редки были засухи. В пределах России зависимость урожаев от природных условий была весьма заметной. Средняя урожайность по ржи в «самах» в 1890-х годах была в нечернозёмной полосе 4,5 (при колебаниях от 4,1 в центральных губерниях до 6,1 в Прибалтике), в чернозёмной полосе - 5,5 (при колебаниях от 5,0 в юго-восточных губерниях до 6,0 в нижневолжских губерниях). Непрерывное увеличение урожайности по всем культурам отмечалось с 1880-х годов повсеместно, что свидетельствовало об огромном труде крестьянства по улучшению техники земледелия.
В большинстве крестьянских хозяйств 2-е место по доходам занимало животноводство. Чисто скотоводческих хозяйств было около 4%, главным образом на окраинах. Поголовье скота с 1860-х годов постоянно возрастало.
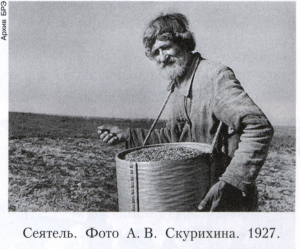 Наибольшими темпами роста отличалось поголовье крупного рогатого скота, с ним связано развитие мясомолочного животноводства. В 1916 коровы составляли 46% всего скота, в маслодельческих районах - до 60%. Стадо лошадей и поголовье свиней выросло в 1,5 раза. Согласно сельскохозяйственной переписи 1916, хозяйствам крестьянского типа (велись либо самим крестьянином и членами его семьи, либо крестьянином и членами его семьи с привлечением наёмных рабочих) Европейской России принадлежало 94,4% общего количества скота, частновладельческим хозяйствам (велись исключительно наёмным трудом), среди которых были и крестьянские, - 5,6% скота. Всего в России насчитывалось 201,8 миллиона голов скота, из них в Европейской части - 68,6%, в Сибири и Степном крае - 21,9%, на Кавказе - 9,5%. Обеспеченность скотом на 100 жителей по Европейской России в 1894-1913 снизилась с 52,3 голов до 51,8 (в пересчёте на крупный рогатый скот), что объясняется сокращением извоза и гужевых перевозок с развитием железнодорожного транспорта. Повышалась продуктивность скотоводства. В разных регионах были созданы главным образом в результате народной селекции породы молочного (холмогорская, ярославская, тагильская, красная степная и др.) и мясного (серая украинская, симментальская и др.) скота. Однако продуктивность животноводства в России была в 1,5-2 раза ниже, чем в западных странах. Средние надои составляли 900-1000 кг (в Дании 2,6 тонн), во многих зажиточных хозяйствах - 2-3 тонны.
Наибольшими темпами роста отличалось поголовье крупного рогатого скота, с ним связано развитие мясомолочного животноводства. В 1916 коровы составляли 46% всего скота, в маслодельческих районах - до 60%. Стадо лошадей и поголовье свиней выросло в 1,5 раза. Согласно сельскохозяйственной переписи 1916, хозяйствам крестьянского типа (велись либо самим крестьянином и членами его семьи, либо крестьянином и членами его семьи с привлечением наёмных рабочих) Европейской России принадлежало 94,4% общего количества скота, частновладельческим хозяйствам (велись исключительно наёмным трудом), среди которых были и крестьянские, - 5,6% скота. Всего в России насчитывалось 201,8 миллиона голов скота, из них в Европейской части - 68,6%, в Сибири и Степном крае - 21,9%, на Кавказе - 9,5%. Обеспеченность скотом на 100 жителей по Европейской России в 1894-1913 снизилась с 52,3 голов до 51,8 (в пересчёте на крупный рогатый скот), что объясняется сокращением извоза и гужевых перевозок с развитием железнодорожного транспорта. Повышалась продуктивность скотоводства. В разных регионах были созданы главным образом в результате народной селекции породы молочного (холмогорская, ярославская, тагильская, красная степная и др.) и мясного (серая украинская, симментальская и др.) скота. Однако продуктивность животноводства в России была в 1,5-2 раза ниже, чем в западных странах. Средние надои составляли 900-1000 кг (в Дании 2,6 тонн), во многих зажиточных хозяйствах - 2-3 тонны.
На окраинах обеспеченность скотом была выше, чем в центральных губерниях. На 100 жителей Европейской части страны приходилось 18 лошадей, 26 голов крупного рогатого скота, в Сибири 55 и 70 соответственно. В разных группах крестьянства значительной была разница в обеспеченности лошадьми. В конце 19 века в Европейской части было 29% безлошадных дворов и 30,3% однолошадных (в 1912 соответственно 31,3 и 31%). В этот же период доля дворов с 4 и более лошадьми уменьшилась с 9,1 до 6%. В 1914 в Европейской России было 24% хозяйств, не имевших коров. В 1917 в 34 центральных губерниях в крестьянских хозяйствах на 100 десятин (109 га) посева приходилось 35 голов рабочего и 55,8 голов продуктивного скота, у помещиков - намного меньше: 18 и 6,6 голов соответственно. Доход от животноводства в 50 губерниях Европейской России в 1900-13 вырос в 2 раза.
С 1860-х годов под влиянием рынка возрастала специализация сельскохозяйственного производства. Зерновое производство концентрировалось в чернозёмной полосе с явным перемещением его центра в юго-восточные губернии. К началу 20 века Таврическая, Херсонская, Бессарабская, Екатеринославская, Саратовская, Самарская, Оренбургская губернии и Область войска Донского давали свыше 1/4 сбора зерновых. На севере и северо-западе выделились районы льноводства. В 1913 в России был выращен 91% льна от всего, собранного в Европе (51,5 из 56,4 миллионов пудов, или 0,84 из 0,92 миллионов тонн.). В Курской губернии, украинских губерниях и Предкавказье было сосредоточено производство сахарной свёклы. Прибалтийские, западные и северные губернии производили 60% молочных продуктов. Сибирь давала около 90% экспорта сливочного масла. На Северном Кавказе 75% площадей занимали посевы пшеницы и ячменя (40% общероссийского сбора), здесь же выращивалось 90% семян подсолнечника, 15% табака. Дон и Северный Кавказ обеспечивали 40% экспорта хлеба. Сложились районы коноплеводства, луководства, табаководства, садоводства, огородничества, картофелеводства, крахмального промысла и др. Закавказье поставляло на рынок виноград и фрукты, в Средней Азии с помощью государства было налажено в крупных размерах хлопководство, в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа - виноделие.
 В пореформенный период на новой основе возник и стал всё более обостряться земельный вопрос, заключавшийся в том, что для многих крестьянских дворов их земельный надел не обеспечивал прожиточного минимума. Для некоторых земельный вопрос был обусловлен первоначально недостаточными размерами надела, полученного по крестьянской реформе 1861. Для большинства крестьянства он неизбежно должен был возникнуть при значительном росте сельского населения и обычае делить землю между всеми сыновьями (в странах Западной Европы и Японии участок передавался только старшему сыну). Надел делился между 2-3 и более сыновьями в каждом поколении, которых в 1860-1917 сменилось, по крайней мере, три.
В пореформенный период на новой основе возник и стал всё более обостряться земельный вопрос, заключавшийся в том, что для многих крестьянских дворов их земельный надел не обеспечивал прожиточного минимума. Для некоторых земельный вопрос был обусловлен первоначально недостаточными размерами надела, полученного по крестьянской реформе 1861. Для большинства крестьянства он неизбежно должен был возникнуть при значительном росте сельского населения и обычае делить землю между всеми сыновьями (в странах Западной Европы и Японии участок передавался только старшему сыну). Надел делился между 2-3 и более сыновьями в каждом поколении, которых в 1860-1917 сменилось, по крайней мере, три.
При огромных пространствах России под сельское хозяйство была пригодна далеко не вся земля. По обследованию землевладения, проведённому в 1905, в России (без Царства Польского и Великого княжества Финляндского) было 1955 миллионов десятин (2135,9 миллионов га) земли, в том числе в Европейской России 440 миллионов десятин (480,7 миллионов га). В сельскохозяйственный фонд входили полностью крестьянские надельные земли (138,7 миллионов десятин, или 151,5 миллионов га) и частновладельческие земли (101,8 миллионов десятин, или 111,2 миллионов га). Из остальных, главным образом казённых, земель в сельскохозяйственный оборот могли быть включены только те земли, на освоение которых можно было рассчитывать в ближайшее время: 25 миллионов десятин (27,3 миллионов га, по подсчётам А. А. Кауфмана) или 40 миллионов десятин (43,7 миллиона га, по подсчётам В. И. Ленина). Таким образом, весь фонд пригодных для сельского хозяйства земель насчитывал в 1905 в Европейской России около 265-280 миллионов десятин (289,5-305,9 миллионов га). Остальные казённые земли (110-125 миллионов десятин, или 120,1-136,5 миллионов га) были заняты лесами (69%), болотами, горами и т.п. и для ведения сельскохозяйственного производства требовали огромных вложений средств.
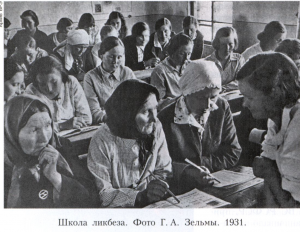 Полученные по реформе 1861 средние наделы равнялись 4,8 десятинам (5,2 га) на душу мужского пола, или по 14,4 десятин (15,7 га) на двор. По данным экономиста Ю. Э. Янсона, в 1870-х годах для прожиточного минимума семьи в 6 человек в чернозёмной полосе необходимо было иметь 10,5 десятин земли (11,4 га), в нечернозёмной полосе - 11,5 десятин (12,5 га), то есть средние крестьянские наделы в 1860-х годах были достаточны, если не учитывать их распределения. По земельной переписи 1877, средние размеры наделов равнялись 13,2 десятинам (14,4 га), в 1905 - 11,1 десятинам (12,1 га). Но средние показатели не отражали реального распределения земли. Согласно переписи землевладения 1905, у бывших помещичьих крестьян (5,7 миллионов дворов, или 47,7% от всех, имевших наделы) средние наделы составляли 6,7 десятин (7,3 га) на двор, у бывших государственных крестьян (5,3 миллионов дворов, или 44,2%) - 12,5 десятин (13,6 га), у бывших удельных крестьян (0,4 миллиона, или 3,6%) - 9,5 десятин (10,3 га).
Полученные по реформе 1861 средние наделы равнялись 4,8 десятинам (5,2 га) на душу мужского пола, или по 14,4 десятин (15,7 га) на двор. По данным экономиста Ю. Э. Янсона, в 1870-х годах для прожиточного минимума семьи в 6 человек в чернозёмной полосе необходимо было иметь 10,5 десятин земли (11,4 га), в нечернозёмной полосе - 11,5 десятин (12,5 га), то есть средние крестьянские наделы в 1860-х годах были достаточны, если не учитывать их распределения. По земельной переписи 1877, средние размеры наделов равнялись 13,2 десятинам (14,4 га), в 1905 - 11,1 десятинам (12,1 га). Но средние показатели не отражали реального распределения земли. Согласно переписи землевладения 1905, у бывших помещичьих крестьян (5,7 миллионов дворов, или 47,7% от всех, имевших наделы) средние наделы составляли 6,7 десятин (7,3 га) на двор, у бывших государственных крестьян (5,3 миллионов дворов, или 44,2%) - 12,5 десятин (13,6 га), у бывших удельных крестьян (0,4 миллиона, или 3,6%) - 9,5 десятин (10,3 га).
Остальные 4,5% дворов принадлежали сельским жителям, приравненным по правам состояния к крестьянам: колонистам разных национальностей (наделы в среднем по 20,2 десятин, или 22 га), башкирам и тептярям (переселенцы в Башкирию с Урала и Поволжья, или новобашкиры; 28,3 десятин, или 30,9 га), чиншевикам (крестьяне, платившие чинш за бессрочно наследственную аренду земли её собственнику; главным образом в Прибалтике, Западной Белоруссии и Западной Украине; 3,1 десятины, или 3,3 га), прибалтийским крестьянам (36,9 десятин, или 40,3 га), казакам (52,7 десятин, или 57,5 га), царанам и резешам (мелкие земельные собственники в Бессарабии; 5,3 десятин, или 5,8 га).
Величина крестьянских наделов значительно отличалась в разных регионах. В 1905 у бывших помещичьих крестьян в северных и северо-западных районах средние наделы были по 10-10,5 десятин (10,9-11,4 га), в Центральном и Средневолжском районах - по 7 десятин (7,6 га), на Левобережной Украине - по 5 десятин (5,4 га). У бывших государственных крестьян наделы по этим районам составляли соответственно 26-30, 9-18 и 7-8 десятин (28,4-32,7, 9,8-19,6, 7,6-8,7 га). Внутри общин земли делились по числу душ мужского пола и существовали переделы, поэтому распределение земли было более пропорционально населению, но многосемейные дворы имели наделы в 2-3 раза больше, чем малосемейные.
 Всего в деревне в 1905 было 14,7 миллионов дворов, из них 12,5 миллионов имели наделы, 2,2 миллиона наделов не имели. Из первых половина (6,2 миллионов) владела участками менее 8 десятин (8,7 га) на двор, в том числе 23% (2,9 миллиона) - даже менее 5 десятин (5,4 га). Таким образом, у половины дворов наделы не позволяли получать от земледелия прожиточный минимум для семьи. По данным сельскохозяйственной переписи 1917, в 38 губерниях Европейской России средние размеры наделов уменьшились до 8 десятин (8,7 га) на двор, что ещё более обострило проблему малоземелья.
Всего в деревне в 1905 было 14,7 миллионов дворов, из них 12,5 миллионов имели наделы, 2,2 миллиона наделов не имели. Из первых половина (6,2 миллионов) владела участками менее 8 десятин (8,7 га) на двор, в том числе 23% (2,9 миллиона) - даже менее 5 десятин (5,4 га). Таким образом, у половины дворов наделы не позволяли получать от земледелия прожиточный минимум для семьи. По данным сельскохозяйственной переписи 1917, в 38 губерниях Европейской России средние размеры наделов уменьшились до 8 десятин (8,7 га) на двор, что ещё более обострило проблему малоземелья.
С другой стороны, 2,2 миллиона домохозяев (18%) в 1905 имели свыше 15 десятин (16,3 га) земли на двор, в том числе 617,7 тысяч (5%) - даже свыше 30 десятин (32,7 га). Им принадлежало 63,9 миллионов десятин (69,8 миллионов га), или почти половина (46,7%) всей надельной земли, в среднем по 29 десятин (31,6 га) на двор. Они могли не только прокормиться со своего надела, но и получить чистую прибыль для расширения производства. Между этими полярными группами была прослойка середняков - около 1/3 дворов с наделами 8-15 десятин (8,7-16,3 га), которые также позволяли прокормиться.
Многие крестьянские хозяйства (30-50% по разным районам) арендовали помещичью, казённую или крестьянскую землю. Основную массу арендаторов составляли бедняки и середняки, но они арендовали небольшие участки главным образом за обязательство отработать у арендодателя определённое число дней (отработки) или за часть урожая (издольщина). Такая аренда была в 2 раза дороже денежной, при ней крестьянин получал кредит (земля весной, оплата осенью) под огромные проценты. По мере развития сельской кооперации, особенно кредитной, и государственной системы мелкого кредита возрастала доля денежной аренды. У зажиточных крестьян было сосредоточено 50-80% арендованной земли. Бедняки арендовали из нужды, зажиточные крестьяне - для предпринимательства.
 После 1861 крестьянство широко пользовалось правом покупать частные земли. Первоначально землю покупали только богатые крестьяне. Возможность покупать земли с рассрочкой платежа через Крестьянский поземельный банк сделала покупки крестьянами земли массовыми. К 1915 в 50 губерниях Европейской России крестьянство купило 33,6 миллиона десятин (36,7 миллионов га) частных земель, в том числе 16,6 миллионов десятин (18,1 миллионов га) было куплено отдельными домохозяевами, 17,06 миллионов десятин (18,6 миллионов га) - обществами и товариществами (иногда всей общиной). В последнем случае земля делилась между дворами в зависимости от суммы внесённых денег и использовалась единолично, но продавать её можно было только с разрешения товарищества. В товариществах происходил частый переход паёв от небогатых крестьян к зажиточным. У зажиточного крестьянства было до 80-90% купчей земли.
После 1861 крестьянство широко пользовалось правом покупать частные земли. Первоначально землю покупали только богатые крестьяне. Возможность покупать земли с рассрочкой платежа через Крестьянский поземельный банк сделала покупки крестьянами земли массовыми. К 1915 в 50 губерниях Европейской России крестьянство купило 33,6 миллиона десятин (36,7 миллионов га) частных земель, в том числе 16,6 миллионов десятин (18,1 миллионов га) было куплено отдельными домохозяевами, 17,06 миллионов десятин (18,6 миллионов га) - обществами и товариществами (иногда всей общиной). В последнем случае земля делилась между дворами в зависимости от суммы внесённых денег и использовалась единолично, но продавать её можно было только с разрешения товарищества. В товариществах происходил частый переход паёв от небогатых крестьян к зажиточным. У зажиточного крестьянства было до 80-90% купчей земли.
Таким образом, аренда и покупка земель не уравнивали реальное землепользование крестьянства, они увеличивали земли зажиточных, частично средних и в ничтожно малой степени бедных крестьян. Малоземелье половины крестьянства (а среди бывших помещичьих крестьян - большинства) чрезвычайно обострило земельные отношения. Если в 1870-х годах 27,7% дворов имели наделы, недостаточные для обеспечения прожиточного минимума семьи, то в 1905 их доля в Европейской России увеличилась в среднем до 50%, а в центральных губерниях чернозёмной и нечернозёмной полосы - до 60-70%. Ситуация осложнялась тем, что промышленность и торговля не могли поглотить весь демографический прирост крестьянства, что вело к избытку «свободных рабочих рук».
Положение крестьянства усугублялось чересполосицей, дальноземельем и мелкополосицей. В меньшей степени эти недостатки были в сёлах с подворным землевладением, распространённым в западных губерниях. В Западном крае сами крестьяне в конце 19 - начале 20 века по своему почину стали создавать хутора и отруба, где все полосы сводились вместе. В 1906-17 улучшением землевладения и землепользования крестьян занимались землеустроительные комиссии.
Большинство дореволюционных исследователей и земских статистиков считало малоземелье крестьянства центральных губерний не абсолютным, а относительным. По их мнению, при более интенсивном земледелии с имеющихся у крестьян наделов можно было получать доход, достаточный для прокормления семей, ведения хозяйства. Но это потребовало бы огромных государственных субсидий для кредитования крестьянства, усиления агрономической помощи, строительства дорог.
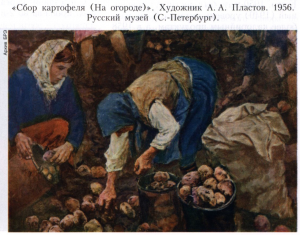 На окраинах обеспеченность крестьянства землёй была гораздо лучше, имелись свободные, удобные для сельского хозяйства земли, хотя в заселённых районах на окраинах были и бедняцкие дворы из-за неравномерного распределения земель. В Ставропольской губернии средние душевые наделы крестьян составляли 16,7 десятин (18,2 га) в 1881, 8 десятин (8,7 га) в 1903, что было в 3 раза больше, чем в центральных губерниях. В Самарской губернии у бывших государственных крестьян на двор приходилось 30 десятин (32,7 га) в 1877, 23 десятины (25,1 га) в 1905. На севере Европейской России средние наделы равнялись 22,4 десятинам (24,4 га) в 1905, в Заволжском районе - 18,3 десятинам (20 га), то есть были в 2-1,5 раза больше, чем в центральных губерниях.
На окраинах обеспеченность крестьянства землёй была гораздо лучше, имелись свободные, удобные для сельского хозяйства земли, хотя в заселённых районах на окраинах были и бедняцкие дворы из-за неравномерного распределения земель. В Ставропольской губернии средние душевые наделы крестьян составляли 16,7 десятин (18,2 га) в 1881, 8 десятин (8,7 га) в 1903, что было в 3 раза больше, чем в центральных губерниях. В Самарской губернии у бывших государственных крестьян на двор приходилось 30 десятин (32,7 га) в 1877, 23 десятины (25,1 га) в 1905. На севере Европейской России средние наделы равнялись 22,4 десятинам (24,4 га) в 1905, в Заволжском районе - 18,3 десятинам (20 га), то есть были в 2-1,5 раза больше, чем в центральных губерниях.
Средние наделы сибирских крестьян, по данным сельскохозяйственной переписи 1917, составляли 64 десятины (69,9 га) на двор, в том числе 11,6 десятин (12,6 га) пашни и 6,6 десятин (7,2 га) сенокоса, остальное - пастбища, луга, лесные и прочие угодья. Многие крестьяне Сибири засевали по 100-300 десятин (109-327 га), имели сотни голов скота. Однако и в Сибири были малоземельные и безземельные дворы, но слой этот был меньше, и жили они лучше, чем в центре. Безлошадные и однолошадные хозяйства даже при обилии земли не могли выбиться в число середняков, так как не имели средств для ведения хозяйства.
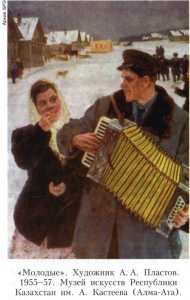 Расслоение крестьянства по количеству земли привело к его быстрой дифференциации по всем показателям. У зажиточных крестьян было больше посевов, лошадей, скота, инвентаря, усовершенствованных машин и т.п. Сравнение земских описей 1890-1900-х годов по 22 чернозёмным уездам Европейской России (обработка И. Д. Ковальченко, Т. Л. Моисеенко, Н. Б. Селунской) с данными 1880-х годов по этим уездам (обработка В. И. Ленина) выявило особенности расслоения и его динамику. У 20% зажиточных дворов, выделенных по размеру надела, в 1880-е годы было 47% посевов, в начале 1900-х годов - 50,1%. За это же время доля посевов у 50% бедных дворов понизилась с 21,1 до 17,5%. В 1-й период у зажиточных дворов посевы на душу населения были в 3,1 раза больше, чем у бедных, во 2-й период - в 3,9 раза. В конце 19 – начале 20 века у зажиточных крестьян на двор приходилось 20 десятин (21,8 га) земли, находившейся в пользовании, у бедных крестьян 3,5 десятин (3,8 га), посевы соответственно были 21,8 и 3,1 десятин (23,8 и 3,38 га), голов рабочего скота 3,5 и 0,6, голов крупного рогатого скота 1,8 и 0,6; дворов с купчей землёй было соответственно 17,9 и 5%. Рабочих нанимали 36,3% зажиточных крестьян и 2,85% бедных крестьян.
Расслоение крестьянства по количеству земли привело к его быстрой дифференциации по всем показателям. У зажиточных крестьян было больше посевов, лошадей, скота, инвентаря, усовершенствованных машин и т.п. Сравнение земских описей 1890-1900-х годов по 22 чернозёмным уездам Европейской России (обработка И. Д. Ковальченко, Т. Л. Моисеенко, Н. Б. Селунской) с данными 1880-х годов по этим уездам (обработка В. И. Ленина) выявило особенности расслоения и его динамику. У 20% зажиточных дворов, выделенных по размеру надела, в 1880-е годы было 47% посевов, в начале 1900-х годов - 50,1%. За это же время доля посевов у 50% бедных дворов понизилась с 21,1 до 17,5%. В 1-й период у зажиточных дворов посевы на душу населения были в 3,1 раза больше, чем у бедных, во 2-й период - в 3,9 раза. В конце 19 – начале 20 века у зажиточных крестьян на двор приходилось 20 десятин (21,8 га) земли, находившейся в пользовании, у бедных крестьян 3,5 десятин (3,8 га), посевы соответственно были 21,8 и 3,1 десятин (23,8 и 3,38 га), голов рабочего скота 3,5 и 0,6, голов крупного рогатого скота 1,8 и 0,6; дворов с купчей землёй было соответственно 17,9 и 5%. Рабочих нанимали 36,3% зажиточных крестьян и 2,85% бедных крестьян.
В зажиточных хозяйствах быстрее происходил рост населения. В 1858-78 у бывших помещичьих крестьян население выросло в среднем на 20,8%, в том числе в семьях с наделами до 4 десятин (4,37 га) - на 18%, с 4-6 десятин (4,37-6,5 га) - на 23,5%, свыше 6 десятин - на 29,5%. У общинников рост составил 20,8%, у подворников - 26,1%.
Расслоение привело к изменениям в жизненном укладе деревни. Бедняки вынужденно расширяли сферы приложения труда: нанимались на заработки, уходили в города. В зажиточных хозяйствах покупались земля, машины, удобрения, изменялись системы земледелия, увеличивалось применение наёмного труда. Росло число батраков: 3,5 миллиона в 1897; 4 миллиона постоянных наёмных работников и 12 миллионов сроковых в 1914.
Материальное положение крестьянства на окраинах в целом было гораздо лучше, чем в центральных губерниях. Переписи хозяйств переселенцев и старожилов за Уралом и выборочное обследование их бюджетов 1911-15 показали, что переселенцы-новосёлы жили лучше, чем в местах прежнего проживания, но гораздо хуже сибирских старожилов.
Хозяйства зажиточных крестьян во всех районах получали более высокие урожаи хлебов и картофеля (в 1,5-2 раза), были более товарными. Зажиточное крестьянство давало половину товарного хлеба страны накануне 1-й мировой войны. Середняки и бедняки производили 28,4% товарного хлеба, но главным образом за счёт большого числа хозяйств, так как они продавали всего 14,7% собранного хлеба. Продажа хлеба у них часто была вынужденной (для уплаты налогов), в то время как зажиточные хозяйства продавали хлеб для получения прибыли. Процент товарности в зажиточных хозяйствах был в 2,3 раза больше, чем у остального крестьянства. На окраинах и в Сибири товарность зажиточных крестьянских хозяйств достигала 40%.
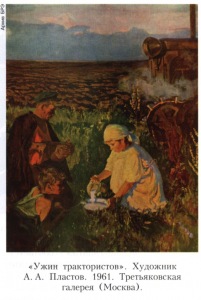 Расслоению крестьянства способствовала и налоговая система, так как налоги распределялись не соответственно доходам, а раскладывались по числу душ мужского пола. Бедные крестьяне были не в состоянии платить налоги полностью, о чём свидетельствует постоянный рост недоимок по платежам. В начале 1880-х годов правительство провело податную реформу, в ходе которой отменён соляной налог (1880), снижены выкупные платежи (1881); указом от 28.12.1881 (9.1.1882) установлен обязательный перевод с 1883 на выкуп всех бывших помещичьих крестьян. В 1886-87 в Европейской России отменена подушная подать. Отмена подушной подати с бывших государственных крестьян (19 миллионов рублей) сопровождалась увеличением (на 16 миллионов рублей) их оброчной подати, которую переименовали в выкупные платежи.
Расслоению крестьянства способствовала и налоговая система, так как налоги распределялись не соответственно доходам, а раскладывались по числу душ мужского пола. Бедные крестьяне были не в состоянии платить налоги полностью, о чём свидетельствует постоянный рост недоимок по платежам. В начале 1880-х годов правительство провело податную реформу, в ходе которой отменён соляной налог (1880), снижены выкупные платежи (1881); указом от 28.12.1881 (9.1.1882) установлен обязательный перевод с 1883 на выкуп всех бывших помещичьих крестьян. В 1886-87 в Европейской России отменена подушная подать. Отмена подушной подати с бывших государственных крестьян (19 миллионов рублей) сопровождалась увеличением (на 16 миллионов рублей) их оброчной подати, которую переименовали в выкупные платежи.
Уменьшение платежей не остановило роста недоимок, тем более что земские и мирские сборы на содержание земств и местных крестьянских учреждений не сокращались. В 1896 по случаю коронации императора Николая II государственный поземельный налог уменьшен вдвое, дана отсрочка по выкупным платежам. Но земские и мирские сборы продолжали расти. В 1891 объём крестьянских платежей составил 1 рубль 33 копейки с 1 десятины (1,09 га) надела, в 1899 - 1 рубль 57 копеек. К 1901 недоимки по выкупным платежам достигли 120 миллионов рублей. Манифестом императора Николая II от 11(24).8.1904 списаны все недоимки по выкупным платежам, а в период Революции 1905-07 манифестом от 3(16).11.1905 выкупные платежи отменены (с начала 1906 наполовину, с начала 1907 полностью). Несмотря на рост земских, мирских и страховых сборов, прямые налоги с крестьянства в 1900-12 понизились на 1/5. Но с конца 19 века, когда была введена винная монополия, основными налогами стали косвенные, которые постоянно росли и составляли 60-70% всех налогов с крестьянства (из них половина за водку). Всех налоговых платежей на душу сельского населения в 1901 приходилось 8,7 рублей, в 1912 - 10,18 рублей. Однако доля налогов в процентах к доходу за эти годы понизилась с 28,7 до 23,7, что свидетельствовало о более быстром росте доходности крестьянских хозяйств.
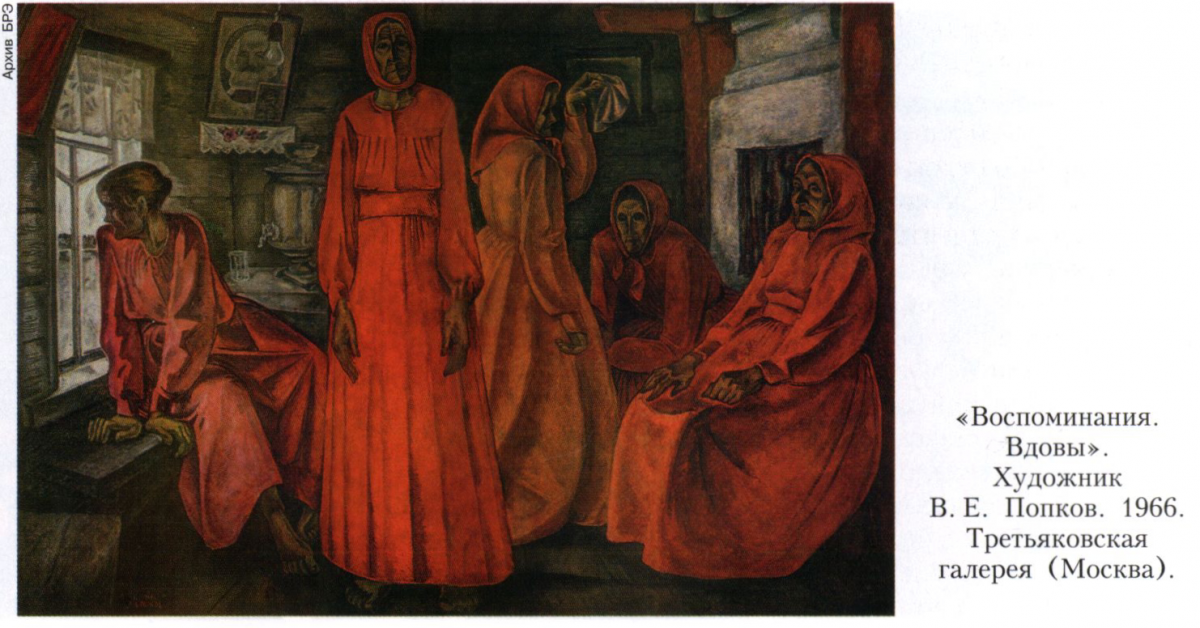 Значительные изменения в пореформенный период произошли в культуре крестьянства. Развитие рыночных отношений подрывало многие старые устои патриархальной деревни, меняло быт и нравы крестьянства. Семьи зажиточных крестьян имели хорошую одежду, более высокий уровень грамотности, лучшее убранство жилищ. Многие бедные дворы нищали, дома их ветшали. Деревни центральных губерний разительно отличались от деревень окраинных губерний своим внешним обликом, неказистостью домов, состоянием дворов. Большое воздействие на разрушение традиционных ценностей и моделей поведения крестьянства оказывало отходничество. Это проявлялось в падении в деревне дисциплины, в покушении на помещичью собственность, в неуважении к старшим и др. Среди православного сельского населения падал престиж Церкви, сельских священников, но абсолютное большинство крестьян соблюдало церковные обряды, хотя по своей занятости не могло посещать все церковные службы. В пореформенный период повысилась культура семейного быта.
Значительные изменения в пореформенный период произошли в культуре крестьянства. Развитие рыночных отношений подрывало многие старые устои патриархальной деревни, меняло быт и нравы крестьянства. Семьи зажиточных крестьян имели хорошую одежду, более высокий уровень грамотности, лучшее убранство жилищ. Многие бедные дворы нищали, дома их ветшали. Деревни центральных губерний разительно отличались от деревень окраинных губерний своим внешним обликом, неказистостью домов, состоянием дворов. Большое воздействие на разрушение традиционных ценностей и моделей поведения крестьянства оказывало отходничество. Это проявлялось в падении в деревне дисциплины, в покушении на помещичью собственность, в неуважении к старшим и др. Среди православного сельского населения падал престиж Церкви, сельских священников, но абсолютное большинство крестьян соблюдало церковные обряды, хотя по своей занятости не могло посещать все церковные службы. В пореформенный период повысилась культура семейного быта.
Для распространения грамотности большое значение имело Положение о начальных народных училищах 1864, разрешившее открывать и содержать их частным лицам, органам местного самоуправления, обществам и т.п. Во 2-й половине 19 века государством при участии земств была создана система начального образования для крестьянства (3-4 года обучения или 5-6 лет обучения), в которую входили земские училища (смотри в статье Земства), школы грамоты, церковно-приходские школы, а также так называемые министерские (находились в непосредственном ведении Министерства народного просвещения), или «образцовые», сельские училища. Расширился доступ крестьянства к среднему образованию: увеличивалась доля крестьян среди учащихся мужских и женских гимназий, реальных училищ, откуда многие выходцы из крестьян поступали в университеты, высшие технические учебные заведения и на высшие женские курсы. Ещё больше крестьян было в неполных средних учебных заведениях - прогимназиях. В начале 20 века несколько средних и неполных средних учебных заведений было открыто по инициативе сельских обществ в крупных сёлах. В 1860 грамотного населения в стране было 7%, в 1897 - 21%, к 1914 среди лиц старше 8 лет - 60%; грамотных среди сельского населения в Европейской России старше 9 лет в 1897 насчитывалось 25,9%, в 1917 - 37,4%. В деревне открывались общественные и народные библиотеки (свыше 10 тысяч в 1904), библиотеки при земских и других школах (76 тысяч в 1914). Во многих сёлах усилиями интеллигенции, кооперативов и земств велись народные чтения, устраивались воскресные школы для детей и взрослых, создавались народные дома (клубы), занимавшиеся разнообразной просветительной деятельностью. Всё больше издавалось дешёвых (по 1-3 копейки) книг специально для народа (издания И. Д. Сытина, А. С. Суворина, Ф. Ф. Павленкова и др.) как религиозных, так и светских. В крестьянскую среду проникала общественно-политическая периодическая печать. Быстро росла доля выходцев из крестьян в составе интеллигенции и буржуазии (в этой группе крестьянство преобладало), офицерства и чиновничества.
В 1900-13 доход крестьянства от зерновых хлебов и технических культур вырос на 86% (до 3426 миллионов рублей), от скотоводства - на 108% (до 1729,7 миллионов рублей). Массовым стало участие крестьянства в сельской кооперации, которая объединяла 80-90% хозяйств зажиточных крестьян, 55-80% середняцких и 20-40% бедняцких хозяйств (численно преобладали две последние категории). Общее положение крестьянства в конце 19 - начале 20 века постоянно улучшалось. Доход от сельского хозяйства на душу населения в деревне вырос с 30 до 43 рублей, чистый доход (за вычетом налогов и платежей) - с 22 до 33 рублей. Расходы крестьянства на потребительские товары в 1900-10 возросли в 2 раза. Значительно выросли вклады крестьянства в сберегательные кассы и другие кредитные учреждения: около 350 тысяч вкладов (на сумму около 65,7 миллионов рублей) в 1896; 1,2 миллиона вкладов (на сумму 228,6 миллионов рублей) в 1905; 2,5 миллиона вкладов (на сумму 480 миллионов рублей) в 1914. Только учреждения мелкого кредита, обслуживавшие в основном крестьян, мобилизовали в 1896 вклады на сумму 19,6 миллионов рублей, в 1914 - на сумму 460,1 миллионов рублей.
Однако средние данные скрывают факт обеднения значительной части крестьянства. Расчёты по величине посева и числу рабочих лошадей показывают, что в центральных губерниях 30-50%, а на окраинах 20-40% крестьянских дворов не могли обеспечить свои потребности, занимаясь сельским хозяйством. С учётом сторонних заработков, доходов от животноводства эту долю следует понизить: группа бедняков, постоянно живших впроголодь даже в урожайные годы, по разным регионам достигала 15-30%; самой большой она была в центральных губерниях. Бедняки составляли ядро крестьянского движения, хотя лозунг раздела помещичьих земель поддерживался всеми слоями крестьянства.
В 1861-1917 постоянно происходили крестьянские волнения - около 140 выступлений в год. При наличии в стране свыше 500 тысяч сёл охват был небольшим. Но в отдельные годы в ряде регионов движение приобретало массовый характер. Самый крупный всплеск был в 1861-63 (3242 выступления), сразу после крестьянской реформы, когда произошло свыше половины всех выступлений крестьян за период 1861-1900 (5502 выступления). Наибольшую известность приобрели волнения в Казанской губернии с центром в селе Бездна Спасского уезда и выступление в Пензенской и Тамбовской губерниях с центром в селе Кандиевка (Кандевка) Керенского уезда Пензенской губернии. Со 2-й половины 1860-х годов начался спад движения. Повышение активности крестьянства в 1880-х годах отразило понижение его жизненного уровня после падения хлебных цен. С середины 1890-х годов исследователи отмечают повышение влияния на крестьянство революционных организаций. Наиболее активными были бывшие помещичьи крестьяне (51% участников выступлений в 1890-1900), затем бывшие государственные крестьяне (28%) (о крестьянском движении в 1796-1917 смотри сборники документов «Крестьянское движение в России...», изданные в 1959-68).
В 1861-80 основной формой крестьянского движения был отказ подписать уставные грамоты. У крестьян было два главных требования: увеличение земельных наделов (30,7% крестьянских выступлений в 1864-69, 43,1% в 1870-80, 67,5% в 1881-87, 80,8% в 1895-1900) и уменьшение податей и повинностей (соответственно 42,7, 34,3, 16, 10%). Таким образом, преобладала борьба за землю. В начале 20 века после отмены выкупных платежей и всех недоимок эта тенденция ещё более усилилась. Среди остальных выступлений наиболее активной была борьба против действий местных властей.
В начале 20 века число крестьянских выступлений возросло. Особенно массовым было движение в Полтавской и Харьковской губерниях в 1902, охватившее 165 сёл с населением свыше 150 тысяч человек. Волнения перекинулись на ряд соседних губерний и продолжались в 1903.
В Революцию 1905-07 крестьянские выступления происходили по всей стране: около 9,5 тысяч за три года - по сводке Департамента полиции, свыше 22-25,8 тысяч - по подсчётам исследователей. Часто выступления крестьян происходили под воздействием рабочего движения. Особенно большое влияние на крестьянское движение оказала Октябрьская всеобщая политическая стачка 1905. В ходе Революции 1905-07 действовала политическая организация крестьянства - Крестьянский союз. Значительным влиянием среди крестьянства пользовалась социалистов-революционеров партия (эсеры). В 1906 крестьяне получили право избирать и быть избранными в депутаты Государственной думы, где многие депутаты-крестьяне объединились в Трудовую группу.
Указ императора Николая II «Об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц других бывших податных состояний» от 5(18).10.1906 завершил уравнение крестьянства в правах с другими сословиями. Крестьянам были предоставлены равные права на государственную службу, они освобождались от обязанности получать согласие сельских обществ при поступлении в учебные заведения и на государственную службу, получали право беспрепятственно увольняться из сельских обществ, свободно выбирать своё местопребывание и др.
В 1-ю мировую войну в армию мобилизовано свыше 15 миллионов человек, в основном из деревни. Женщины, подростки, вернувшиеся с фронта раненые солдаты и привлекавшиеся к работе военнопленные не могли полностью заменить мобилизованных на фронт крестьян. Посевы в целом по стране сократились с 82,4 миллионов десятин (90 миллионов га) в 1914 до 75,9 миллионов десятин (82,9 миллионов га) в 1916, то есть на 11,4%, но в Сибири увеличились на 60%. Не коснулось сокращение посевов и окраин Европейской России. Валовой сбор хлебов был меньше среднего по сравнению с довоенным периодом и составил за 3 года 13,5 миллиардов пудов (221 миллион тонн). Однако этого было достаточно для удовлетворения продовольственных потребностей населения и хозяйственных нужд крестьянства, включая корм скота, поскольку в годы войны почти полностью прекратился экспорт зерна и, в связи с введением «сухого закона», использование его для винокурения и пивоварения. Все правительственные закупки хлеба были меньше довоенного экспорта. Средние урожаи по стране сохранились на прежнем уровне. По данным сельскохозяйственной переписи 1917, сбор зерна в стране составил 3,777 миллиарда пудов (61,8 миллиона тонн) и был на 24% меньше среднего сбора 1909-13. По ряду районов (Сибирь, центральные земледельческие губернии и др.) были отмечены излишки после удовлетворения всех нужд, в то же время в Среднем и Нижнем Поволжье, в Центральнопромышленном регионе отмечался недостаток хлеба. В целом по Европейской России излишков хлеба было 615,5 миллионов пудов (10 миллионов тонн), недостатков - 318,9 миллионов пудов (5,2 миллионов тонн). Трудность заключалась в перераспределении излишков, а главное - в сложности перевозки огромного количества хлеба с окраин в центр при крайне загруженных военными перевозками железных дорогах.
Положение крестьянства, как и других категорий населения, ухудшилось в связи с инфляцией. Зажиточные крестьяне и помещики не были заинтересованы в продаже хлеба, держали его большие запасы и прибегали к натуральному обмену. Правительство попыталось в 1916 ввести по 31 губернии Европейской России твёрдые цены на хлеб и с января 1917 продразвёрстку поставок хлеба для армии. В конце 1916 - начале 1917 уменьшился подвоз хлеба в города, особенно в Петроград и Москву. Значительную часть хлеба скупали спекулянты. Не хватало хлеба и бедным хозяйствам всех районов, так как излишки хлеба были только у зажиточных крестьян. Гораздо хуже обстояло дело с продуктами животноводства, с производством сахара, растительного масла. Поголовье скота уменьшилось по Европейской России на 5-7 миллионов голов; для армии было реквизировано 2 миллиона лошадей. После Февральской революции 1917 Временное правительство попыталось вновь ввести почти повсеместно продразвёрстку и твёрдые цены, но также безрезультатно.
В начале войны крестьянские выступления почти прекратились, возобновились в 1916, а после Февральской революции 1917 приняли массовый характер. По данным Временного правительства, в марте - октябре 1917 зарегистрировано 4246 выступлений. По материалам местных архивов, за этот период произошло не менее 16,3 тысяч выступлений крестьянства. Крестьяне захватывали земли, усадьбы помещиков, произвольно занижали стоимость аренды. Они жгли усадьбы, но, в отличие от 1905-06, не уничтожали имущество, зерно, скот, а делили их, считая, что Учредительное собрание узаконит захваты. Движение охватывало в основном центральные губернии, где было много частновладельческих имений. Крестьяне втягивались в политическую борьбу. В марте 1917 возродился Крестьянский союз, повсеместно возникали советы крестьянских депутатов, состоялся 1-й Всероссийский съезд советов крестьянских депутатов [Петроград, 4(17).5-28.5(10.6).1917], на котором был избран его исполком, поддерживавший Временное правительство. В крестьянских общественно-политических организациях преобладали эсеры.
1917-1991. На решение земельного вопроса были направлены первые мероприятия советской власти после Октябрьской революции 1917. Декретом о земле и Основным законом о социализации земли от 27.1(9.2).1918, которые в целом соответствовали аграрной программе эсеров, ликвидировалась частная собственность на землю, земля передавалась в безвозмездное трудовое пользование крестьянам на принципах уравнительного перераспределения. Норма наделения землёй крестьянской семьи определялась её продовольственными потребностями и рабочими силами, учитывались местные условия. Эти мероприятия во многом обеспечили советской власти лояльность крестьянства, так как основывались на популярных в общинной деревне идеях о «чёрном переделе земли». К 1919 в Европейской России было распределено приблизительно 17 215 926 десятин (18 765 359 га) земли, включая бывшие помещичьи, купеческие, монастырские, церковные и надельные крестьянские земли, а также превышавшие установленную норму частные крестьянские земли - купчие, отрубные и хуторские, в незначительной степени - казённые земли. Из всей распределённой земли 16 413 886 десятин (17 891 136 га; 95,3%) перешли единоличным крестьянам, 145 736 десятин (158 852 га; 0,8%) - коммунам и артелям и 656 755 десятин (715 863 га; 3,9%) - совхозам, фабрично-заводским коллективам, больницам, школам и пр. В результате прирост крестьянского землепользования составил 29,8% и оно достигло в общей сложности 93 373 190 десятин (101 776 777 га). После уравнительного передела 1918-19 доля не имевших посева крестьян сократилась почти вдвое: с 11,5 до 6,9%. Число малоземельных крестьянских хозяйств (до 2 десятин, или 2,2 га посева) возросло с 6 миллионов до 8-9 миллионов, составив 43%. Группа средних хозяйств (от 2 до 8 десятин, или от 2,2 до 8,8 га) понизилась с 50,7 до 45,8%. Доля дворов, сеявших свыше 8 десятин (8,8 га), упала с 9 до 3,8%. Однако значительная часть безземельных и малоземельных крестьян, получив землю, оказалась не в состоянии справиться с её возделыванием, поскольку эти крестьяне не имели или почти не имели инвентаря, скота, семян.
Уравнительное перераспределение земли сгладило социальные различия, повысив долю среднего крестьянства, но привело к исчезновению более или менее крупных хозяйств, наиболее производительных и товарных, и измельчанию аграрного производства, натурализации и снижению производительности крестьянского хозяйства. В условиях обострения продовольственного кризиса весной 1918 власти расширили применение чрезвычайных насильственных мер изъятия хлебных запасов у крестьянства, опираясь на его неимущие и беднейшие слои. С этой целью декретом ВЦИК и СНК от 11.6.1918 образованы комитеты бедноты, что привело к разжиганию классовой борьбы в деревне. Осенью В. И. Ленин, осознав опасность усилившегося социального раскола в крестьянской среде, призвал партию отказаться от ставки на бедную часть крестьянства и установить союз с середняками. Смена политики, а также решения съезда РКП(б) 1919 по военным вопросам, направленные на ликвидацию добровольческих методов строительства армии и переход к регулярной армии, позволили в кратчайшие сроки сформировать из крестьянство многомиллионную Красную Армию.
В 1918-20 ресурсы крестьянского хозяйства истощились в результате политики «военного коммунизма» (продовольственной диктатуры и резко возросших натуральных повинностей, прежде всего продразвёрстки). К 1921 тяжесть налогообложения составила не менее 25% условного чистого дохода крестьянского хозяйства - вдвое больше по сравнению с периодом до 1-й мировой войны (подсчёты А. Л. Вайнштейна). В результате хозяйственная жизнь деревни пришла в упадок. За 1917-21 посевные площади сократились в полтора раза, урожайность снизилась на 40%, валовые сборы составили лишь 1/3 довоенного уровня. В 1921 по России и Украине поголовье лошадей сократилось до 76% от довоенного уровня, крупного рогатого скота - до 76,4%, овец - до 56%, коз - до 78,7%, свиней - до 72,7%. Значительное усиление налогового бремени, усугубляемого репрессивными мерами и произволом чрезвычайных органов, привело к вооруженному сопротивлению крестьян, достигшему наибольшей активности и масштабов в губерниях Центральной России (Тамбовская, Воронежская), Поволжья, Южной и Западной Украины, Северного Кавказа, Урала, Западной Сибири и др. (например, Тамбовское восстание 1920-21, Западносибирское восстание 1921), которое сопровождалось антибольшевистскими выступлениями пролетариата и армии. В то же время основную ставку на крестьянство начинают делать антибольшевистские политические силы внутри страны и за рубежом.
Угроза крестьянской войны против советской власти стала решающей причиной отказа большевистского руководства от режима «военного коммунизма» и принятия решения о переходе в марте 1921 к новой экономической политике (НЭП). Однако фактически этого перехода тогда не произошло, а в смягчённой форме сохранялась система военно-коммунистического регулирования социально-экономических отношений, продразвёрстка была заменена на натуральный продуктообмен между городом и деревней, сельским хозяйством и промышленностью. Причиной была катастрофическая по масштабам засуха, поразившая весной - летом 1921 (второй год подряд) зерновые регионы Поволжья, а также Приуралье, часть Северного Кавказа, Южной Украины и Крыма (всего 22 губернии), она усугубила бедственное положение крестьянства и привела к массовому голоду. По сравнению с предшествующим годом валовой сбор хлебов сократился с 2,1 миллиона пудов (около 34,4 тысяч тонн) до 1,7 миллиона пудов (около 28 тысяч тонн), составив около 44% от среднегодового уровня 1909-13. Численность голодающих в сельской местности приблизилась к 30 миллионам человек, от голодного истощения и связанных с ним заболеваний погибло, по разным оценкам, от 1 до 3 миллионов человек. Несмотря на продовольственную помощь, оказанную государством и международными организациями пострадавшему населению, голод продлился вплоть до лета 1923.
В первые годы НЭПа постепенно возобновлялись рыночные отношения. Были значительно снижены и ограничены объёмы государственных заготовок. Введённый правительством продналог оказался ниже отменённой продразвёрстки по зерну на 43,3%, масличным семенам - вдвое, мясу - на 74,5%, маслу - на 36,1%, льноволокну - в 15 раз. Но для зажиточных хозяйств предусматривалось резкое повышение прогрессивности налогообложения, достигавшее 35% доходности. Одновременно крестьянам возвращалось право свободной торговли своей продукцией. Земельный кодекс 1922 ограничивал уравнительные функции общины и расширял возможности для индивидуализации крестьянского землепользования (выделение хуторов и отрубов из общинной земли). Допускались аренда земли в случае «временной ослабленности» хозяйства и наём рабочей силы при условии личного труда нанимателя «наравне с рабочими». Изменение аграрной политики создало благоприятные условия для экономического возрождения деревни.
С 1923 года начался рост посевных площадей, которые в 1925 достигли 99,3% от уровня 1913, а урожайность важнейших культур превысила среднегодовые показатели 1901-13 на 10-11%, что во многом объяснялось также относительно благоприятными погодными условиями. Поголовье крупного и мелкого рогатого скота, свиней в 1924 уже существенно превзошло довоенный уровень. Но крестьянская агротехника оставалась примитивной. Абсолютно преобладала консервативная паровая 3-польная система земледелия. В 1924 многополье с плодосменом и травосеянием охватывало 3664 тысячи га (7,2% посевной площади РСФСР), оно почти целиком было сосредоточено в губерниях промышленного центра, запада и северо-запада России. К 1927 площадь под многопольем выросла до 17 740 тысяч га в РСФСР (17,3% посевов), до 6778 тысяч га в УССР и до 334 тысяч га в БССР.
Валовая продукция сельского хозяйства страны в 1921-27 увеличилась почти вдвое и составила 98,6% относительно 1913. Но товарность сельскохозяйственного производства в условиях НЭПа оказалась значительно ниже, чем в 1913. Согласно данным Госплана, норма товарности всей сельскохозяйственной продукции (без учёта внутридеревенского оборота) в 1923/24 достигла 16% от довоенного уровня, в 1926/27 поднялась до 18,3%, но всё ещё уступала довоенной почти в полтора раза. При этом среднедушевое потребление хлебопродуктов самим крестьянским населением в середине 1920-х годов достигло уровня 1913, превысило его по мясу на 15%, молоку - на 43%, яйцам - на 28%. Росту производительности и товарности сельского хозяйства во многом препятствовала ценовая политика государства. По данным Наркомфина СССР, производителю доставалось 50-60% цены, уплаченной потребителем за хлеб (до 1-й мировой войны - 70-75%). В 1927 крестьяне теряли на неблагоприятном соотношении индексов промышленной и сельскохозяйственной цен до 1 миллиарда рублей. Это снижало их покупательную способность, к тому же резко сужало внутренний рынок для государственной промышленности.
Противоречивость экономического курса вновь вызвала рост недовольства в деревне. В 1924 разразился политический кризис во взаимоотношениях крестьянства и власти. Его непосредственными причинами стали резкое (на 25%) повышение сельхозналога в условиях неурожая в ряде хлебопроизводящих регионов, очередной скачок цен на промтовары и массовые увольнения крестьян-отходников на промышленных предприятиях в связи с ограничением бюджетного финансирования. Негативные явления в экономике усугубила кончина В. И. Ленина, после которой распространились слухи о разногласиях в руководстве страны. Всплеск политического радикализма среди крестьянского населения проявился в антисоветских выступлениях, повсеместных призывах к воссозданию Крестьянского союза (такие попытки пресекались органами ВЧК - ГПУ - ОГПУ), к перевыборам «снизу доверху» при всеобщем, прямом, тайном голосовании и равных избирательных нормах представительства от города и деревни и др. [неравенство прав городского и сельского населения было закреплено в Конституции РСФСР (1918) и Конституции СССР (1924)]. В некоторых районах (например, в Западной Грузии) вспыхнули крестьянские восстания. Нараставший кризис вынудил правительство проводить аграрную политику под лозунгом «лицом к деревне» весной 1925. Был снижен почти вдвое (с 470 до 280 миллионов рублей) сельхозналог, разрешены долгосрочная аренда и предпринимательский наём рабочей силы в земледелии, предоставлены значительные льготы в налогообложении и кредитовании крестьянского хозяйства, стало поощряться хуторское и отрубное землепользование, а также расширились полномочия сельсоветов. В результате социально-экономическое положение крестьянства существенно улучшилось.
Восстановление промышленного производства благоприятствовало возобновлению крестьянами отхожих промыслов, традиционно игравших важную роль в хозяйственной жизни села. К середине 1920-х годов масштабы отходничества из сельской местности на заработки значительно расширились (около 1,7 миллиона человек в 1923-24, свыше 3,1 миллионов человек в 1926-27), опережая спрос на рабочую силу в промышленности и усиливая безработицу в городах.
Преобладающим стал краткосрочный или сезонный отход, средняя продолжительность которого в РСФСР, по данным статистического отдела Наркомата труда (1926/27), составила 5,03 месяца в неземледельческих промыслах и 4,21 месяца в сельскохозяйственных промыслах. Наиболее интенсивно отходничество развивалось в губерниях Центральнопромышленного района и Европейского Севера России, где доходность сельскохозяйственного производства была относительно низкой. К середине 1920-х годов на эти регионы приходилось свыше половины всех отходников в СССР и около 60% - в РСФСР. Направления отхода зависели, прежде всего, от уровня оплаты промыслового труда. Наряду со столичными губерниями, самыми привлекательными для отходников традиционно считались индустриально развитые районы Центральной России (Владимирская, Калужская, Костромская, Нижегородская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Рязанская, Ярославская губернии), а также север и северо-запад страны (Архангельская и Новгородская губернии, Карельская АССР), где пришлые крестьяне трудились на лесозаготовках. Неземледельческие промыслы, как и в дореволюционный период, оставались одной из важнейших отраслей крестьянского хозяйства, нередко определяя его социальный статус во внутридеревенской иерархии.
В условиях НЭПа сложилась относительно стабильная социальная структура крестьянства, в которой преобладали середняцкие слои. Их доля за 1924/25 - 1926/27 выросла с 61,1 до 62,7%. Доля наиболее зажиточного крестьянства за тот же период увеличилась с 3,3 до 3,9%, а малоимущего - сократилась с 25,9 до 22,1%. При этом численность сельскохозяйственных рабочих (сельского пролетариата) повысилась с 9,7 до 11,3%. Определяющую роль в аграрной сфере стали играть мелкие натуральные и полунатуральные хозяйства, ресурсы которых не позволяли вести расширенное товарное производство.
Низкая товарность как закономерное следствие «осереднячивания» крестьянства после Октябрьской революции 1917 и антирыночных ограничений в аграрной сфере (классово дифференцированное прогрессивное налогообложение, дискриминационная ценовая политика, препятствия, чинившиеся зажиточным крестьянам в получении кредитов, приобретении сельскохозяйственной техники, аренде земли и др.) приводила к срыву государственных планов заготовки и экспорта сельскохозяйственной продукции. В условиях хлебозаготовительного кризиса 1927/28 политическое руководство прибегло к чрезвычайным административно-принудительным мерам, включая конфискацию зерна. В ответ крестьяне стали сокращать производство. К осени 1928 посевная площадь в стране уменьшилась на 6,4%, начался массовый забой скота и процесс самоликвидации высокотоварных крестьянских хозяйств. По данным ЦСУ, их доля уменьшилась с 9,5% в 1927 до 5,5% в 1929. Продолжилось падение советского хлебного экспорта, который в 1928/29 хозяйственном году сократился в 3,5 раза. Невозможность изъять нужное количество продукции у крестьян методом принуждения в условиях антирыночных ограничений становилась препятствием для государственного курса на форсированную социалистическую индустриализацию, осуществляемую за счёт перекачки средств из сельской экономики в промышленность.
В конце 1929, в том числе на ноябрьском Пленуме ЦК ВКП(б), советское руководство приняло решение о сплошной коллективизации сельского хозяйства (началась с января 1930), которая сопровождалась политикой раскулачивания. Индивидуальное крестьянское хозяйство как массовая форма организации сельскохозяйственного производства было ликвидировано. Ему на смену пришло крупное обобществлённое хозяйство. Была ликвидирована сельскохозяйственная кооперация, игравшая большую роль в экономике крестьянского хозяйства. Создание колхозов позволило установить жёсткий контроль над производством и распределением сельскохозяйственной продукции, облегчив её изъятие государством. Сложившийся колхозный строй стал составной частью советского общества. Крестьянская община как административная единица (земельное общество) в 1930 упразднена, а все её права и обязанности полностью переданы сельским советам.
Численность крестьян вследствие репрессивных конфискационных мер проведения коллективизации и раскулачивания, а также политики индустриализации, подрыва производственного потенциала деревни и вместе с тем роста государственных заготовок и наступившего из-за этого голода 1932/33 сократилась примерно на 25 миллионов человек: 5 миллионов человек, по подтверждённым данным, погибли, 15-20 миллионов человек мигрировали в город (подсчёты В. В. Кондрашина). Доля сельского населения в стране понизилась с 82,1% в 1926 до 66,5% в 1939 (с этого времени статистикой учитывались и кооперированные кустари), а собственно крестьянство - с 75 до 49,8% (со 110 до 85 миллионов человек). Введённая в декабре 1932 паспортная система (не распространялась на сельское население) препятствовала массовому наплыву в города голодавших крестьян, которые фактически прикреплялись к колхозам.
Основным источником существования крестьян оставалось личное подсобное хозяйство. Колхознику разрешалось иметь в пользовании от 0,25 до 0,5 га (в отдельных районах - до 1 га) приусадебной земли и в личной собственности 1-3 головы крупного рогатого скота, неограниченное количество птицы, кроликов и т.д. В 1940 личное приусадебное хозяйство обеспечивало крестьянской семье 48,3% её совокупного дохода (работа в колхозе - 39,7%). Ещё около 1/8 поступлений в семейный бюджет приносили различные заработки на стороне. Несмотря на ограниченные ресурсы (до 1% посевных площадей), приусадебное хозяйство играло важную роль в общем производстве ряда важнейших видов сельскохозяйственной продукции. В 1940 личные приусадебные хозяйства производили 77% молока, 72% мяса, 65% картофеля, 48% овощей, 12% зерна.
Возросшая в условиях индустриализации потребность в квалифицированных кадрах обусловила расширение системы общеобразовательных учреждений и активизацию мероприятий государства по ликвидации неграмотности в деревне, привлечение её жителей к получению специального образования (смотри в статье Культурная революция). Сельских школ в 1928/29 было 112 541, учителей - 227,6 тысяч человек, учащихся - 8667,3 тысяч человек, в 1938/39 - соответственно 153 209 школ, 715,3 тысяч учителей, 22 087,8 тысяч учащихся (в 1914/15 - 93 770 школ; 152,4 тысяч учителей, 6117,2 тысяч учащихся). В 1917 среди сельского населения в возрасте от 9 до 49 лет доля грамотных составляла 38% (резко снизилась по сравнению с 1914 из-за потерь в 1-ю мировую войну, а также в связи с тем, что с 1915 пресеклась практика обучения грамоте новобранцев в армии; на разность показателей, возможно, также влияет несопоставимость статистики - различия в диапазоне возрастов, в методике подсчёта, учёт либо неучёт отдельных категорий населения), в 1926 - 50,6%, в 1938 повысилась до 84%. Однако качество обучения оставалось невысоким вследствие слабости материальной и профессиональной базы.
Великая Отечественная война имела самые тяжёлые последствия для социального и экономического положения крестьянства. Трудоспособное население деревни сократилось с 35,5 миллионов человек в 1940 до 23,9 миллионов человек в 1945 (включая вернувшихся с фронта). Причём доля мужчин снизилась с 47,6% до 27%. Основной рабочей силой в колхозах стали женщины и подростки. В деревне отсутствовали минимальные социальные блага: колхозникам не полагались пенсии, отпуска, пособия по нетрудоспособности, на них не распространялось нормированное государственное снабжение продовольствием. Это усиливало миграцию крестьян (прежде всего молодёжи) в города.
В условиях ухудшения экономического положения и повышенных объёмов заготовок личное хозяйство становилось не только главным, но зачастую и единственным источником выживания крестьян (в 1950 каждый четвёртый колхоз не выдавал денег по трудодням). Однако непомерное увеличение налогового бремени провоцировало самоограничение индивидуального производства - забой личного скота, вырубку плодовых деревьев и кустарников на приусадебных участках. В целом за годы 1-й послевоенной пятилетки (1946-50) сельскохозяйственный налог вырос в 2,5 раза; общая сумма налогов и сборов составляла пятую часть денежных доходов колхозной семьи. В 1946 почти все зерновые области страны (Украину, правобережье Нижней и Средней Волги, Ростовскую область, Центральное Черноземье), а также Молдавию поразила сильная засуха. Урожайность зерновых в среднем по стране составила вдвое меньше в сравнении с 1940, валовый сбор - в 2,2 раза меньше. Но объём государственных поставок сельскохозяйственной продукции существенно не изменился, репрессивные меры в ходе заготовок резко усилились, что привело к изъятию большей части продовольственного фонда колхозов. Разразившийся в 1946-47 новый голод унёс жизни 770,7 тысяч человек (подсчёты В. П. Попова), вызвал рост заболеваний и ещё более усилил массовую миграцию крестьянства в города. Преодолеть паспортные ограничения позволяли оргнабор на восстановление городов и промышленности, новые производства и промыслы, отъезд на учёбу, служба в армии, замужество и пр. После завершения демобилизации в середине 1948 началось быстрое сокращение сельского населения. В колхозах оно уменьшилось с 65,9 миллионов человек в 1947 до 62,3 миллионов человек к концу 1950 (без учёта Молдавской ССР, прибалтийских республик и западных областей УССР и БССР).
Смерть И. В. Сталина (1953) и перемены в политическом руководстве СССР обусловили либерализацию аграрного курса государства. Сократились (в 1958 полностью отменены) обязательные поставки сельскохозяйственных продуктов государству крестьянскими подсобными хозяйствами, прежняя задолженность по ним была списана. В 2-5 раз повысили закупочные цены на молоко, масло, картофель, скот, птицу. Новый закон о сельскохозяйственном налоге, принятый в августе 1953, предусматривал двукратное снижение налогового бремени, денатурализацию и унификацию налогообложения (в 1958 сельскохозяйственный налог с приусадебных хозяйств крестьян отменён). Увеличивалось государственное финансирование сельского хозяйства, проведены другие мероприятия.
Значительно улучшилось социальное положение крестьянства. В марте 1956 года в Устав сельскохозяйственной артели внесены изменения, разрешавшие колхозам устанавливать размеры приусадебных участков и количество домашних животных в личном пользовании, а также определять обязательный минимум трудодней для членов хозяйства. За 1954-58 выдача денег колхозникам на трудодень увеличилась втрое. К середине 1950-х годов был достигнут довоенный (1940) уровень питания крестьянства по наиболее калорийным продуктам, а в 1958 потребление сахара по сравнению с 1940 выросло в 6 раз, мяса - вдвое, кондитерских изделий и рыбных продуктов - в 3 раза. С февраля 1958 началась постепенная паспортизация жителей села, в том числе крестьян. Колхозникам, выезжавшим из деревни на работу или учёбу в города и другие регионы, стали выдавать временные паспорта. Это способствовало усилению стихийной миграции из деревни в город, где уровень жизни оставался значительно выше. Только за 1960-64 7 миллионов сельских жителей стали горожанами (из них 6 миллионов в возрасте до 29 лет). К началу 1960-х годов доля сельского населения составила 52%, собственно крестьян - 31,7%. BC СССР принял закон о пенсиях и пособиях членам колхозов от 15.7.1964, который впервые устанавливал в советской деревне государственную систему социального обеспечения колхозников. Вводились пенсии по старости, для мужчин - с 65 лет, для женщин - с 60 лет. Выплаты производились из Центрального фонда, созданного за счёт отчислений от доходов колхозов и ассигнований по госбюджету.
В конце 1950-х - начале 1960-х годов руководство страны инициировало мероприятия по сокращению размеров приусадебных участков и численности индивидуального скота крестьян. Особенно широкий размах притеснение владельцев личных приусадебных хозяйств приобрело в Калининской, Калужской, Курской, Кировской, Московской и Рязанской областях и Краснодарском крае. Постановление Президиума BC РСФСР, принятое в мае 1963, ограничивало производство мяса и молока в индивидуальном секторе: на одну семью разрешалось иметь не более одной коровы, овцы или свиньи. В результате поголовье коров в крестьянских личных приусадебных хозяйствах сократилось более чем втрое: с 19 миллионов (1959) до 6 миллионов (1964). Но индивидуальные хозяйства крестьян оставались основными производителями картофеля, овощей и яиц; давали около половины молочной и мясной продукции: в 1961-64 соответственно 42-45% и 42- 44% (подсчёты И. Е. Зеленина). Вместе с тем доля товарной продукции личных приусадебных хозяйств в 1964 уменьшилась в 2,5 раза (до 19% сельскохозяйственного производства). Обострились проблемы со снабжением городского населения животноводческой продукцией. В мае 1962 правительство повысило закупочные цены на 35% (уже в середине 1950-х годов в результате многократного повышения закупочные цены были приведены в соответствие с себестоимостью животноводческой продукции и даже в некоторой степени превысили её). За счёт этого и других мер государству удалось несколько улучшить ситуацию в животноводстве и стабилизировать положение в земледелии. Но в связи с неурожаем 1963 впервые после войны пришлось прибегнуть к импорту зерна.
Следствием курса на концентрацию сельскохозяйственного производства во 2-й половине 1960-х – начале 1980-х годов стала политика ликвидации «неперспективных» сёл и деревень. Таковыми ещё с конца 1950-х годов считались селения, которые по размерам и местоположению не отвечали намеченным властями принципам организации аграрного хозяйства. В 1974 к «неперспективным» было отнесено 114 тысяч (свыше 80%) населённых пунктов в сельской местности РСФСР. Предполагалось, что их жители в результате свёртывания социальной инфраструктуры и коммуникаций будут переселены в крупные сёла и центральные усадьбы. Но, в конечном счёте, предпринятые мероприятия лишь усугубили отток сельского населения, прежде всего молодёжи, в города. Это привело к быстрому «старению» деревни: в 1959-1979 число лиц в возрасте 20-54 лет в сельской местности сократилось с 49 до 29%, а доля 55-летних и лиц более старшего возраста удвоилась с 16 до 34%. Уменьшение доли молодёжи в половозрастной структуре населения подрывало производственный потенциал села.
Стремясь приостановить нарастание негативных тенденций в развитии аграрной сферы, руководство страны во 2-й половине 1960-х - начале 1980-х годов приняло запоздалые меры к улучшению социального положения крестьянства. С июля 1966 введена гарантированная оплата труда колхозников (деньгами и натурой на основе тарифных ставок для работников совхозов). Таким образом, колхозники, наряду с работниками совхозов и промышленными рабочими, стали получать зарплату из государственного бюджета. Уровень оплаты труда крестьянства с конца 1960-х годов систематически повышался. В 1970-80 в среднем на одного работника он вырос в полтора раза - со 101 рубля до 149 рублей 20 копеек. В середине 1970-х годов доля заработной платы впервые стала абсолютно преобладать в совокупном денежном доходе колхозников и рабочих совхозов, составив 52,2%, а в 1985 уже - 57,3%. Доля доходов от личных приусадебных хозяйств, напротив, резко упала: до 26,1% в 1980, 21,8% в 1985, 20,0% в 1988. При этом рост заработной платы не отвечал динамике производительности труда в сельском хозяйстве, так как уже не зависел от его конкретных результатов, а устанавливался в соответствии с действующей тарифной сеткой. Даже в нерентабельных колхозах труд крестьян часто оплачивался сравнительно высоко. В 1965 зарплата колхозника составляла 64% валового дохода колхозов, в 1970 - 66%, в 1978 - 77%, в 1980 - 96%. Но в условиях товарного дефицита возможности существенного улучшения материального благосостояния крестьян за счёт растущих доходов были крайне ограничены. Поэтому увеличение оплаты труда, не связанное с его производительностью, само по себе не могло остановить крестьянскую миграцию в города. За 1959-89 доля сельского населения СССР снизилась вдвое - с 52 до 26,4%, численность колхозного крестьянства сократилась на 40% (с 64 до 38,2 миллионов человек). Низкий уровень механизации сельского хозяйства (60-70% работ в 1970-80-е годы приходилось на ручной труд) не позволял компенсировать опережающее сокращение трудовых ресурсов села. Сельскохозяйственное производство отставало от потребностей страны. В результате импорт наиболее дефицитных видов продовольствия (мясо, рыба, масло) в денежном выражении вырос почти в 10 раз. Импортное зерно составило примерно пятую часть потребляемого в стране хлеба.
Первые попытки реформирования основ аграрного строя в стране были предприняты лишь в конце 1980-х годов и направлены на децентрализацию и разбюрокрачивание управления, поощрение индивидуального предпринимательства и внедрение арендного подряда в сельском хозяйстве. На основании Указа Президиума BC СССР «Об аренде и арендных отношениях в СССР» (апрель 1989) вновь стали возрождаться мелкотоварные крестьянские хозяйства, ликвидированные в начале 1930-х годов в ходе коллективизации: в 1990 образовалось 4,4 тысячи семейных ферм на арендованной земле, в 1991 возникло ещё 45 тысяч ферм. Однако их роль в развитии сельского хозяйства страны была незначительна (около 2% возделываемых угодий, 3% поголовья скота и менее 1% общего объёма сельскохозяйственной продукции). Отчуждение крестьянина от земли в результате огосударствления сельскохозяйственного производства и «раскрестьянивания» деревни в предшествующие десятилетия делали невозможным быстрое развитие фермерства в массовых масштабах.
1991-2008. Более широкое распространение фермерские хозяйства получили в постсоветской России, особенно в первые годы её существования. Указ Президента России «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» от 27.12.1991 предоставил крестьянам право выделить свою земельную долю из общего владения и создать самостоятельное (фермерское) хозяйство. Воспользовались такой возможностью 5% лиц, получивших земельные паи. В 1995 численность фермерских хозяйств достигла 280,1 тысяч, но к началу 2000-х годов главным образом по причине разорения она сократилась до 261,7 тысяч, в 2005 - до 257,4 тысяч. При этом размер землевладения и землепользования в среднем на хозяйство увеличился с 43 га до 58 га и 75 га соответственно, доля в общем объёме производства сельскохозяйственной продукции в 2005 составила 5,7%. Но подавляющее большинство крестьян (2,6 миллиона) остаётся в составе трудовых коллективов сельскохозяйственных предприятий и объединений (акционерных обществ, товариществ, кооперативов, колхозов и др.), которым на правах аренды или пользования передана основная часть земельных долей крестьянства.
Резкое ограничение государственной поддержки в условиях общего экономического кризиса 1990-х годов поставило российских сельскохозяйственных производителей в крайне тяжёлое положение и привело к упадку сельского хозяйства. Валовой объём сельскохозяйственной продукции в 1990-х годах сократился на 41,7%. Площадь посевов за 1990-1995 уменьшилась с 117 705 тысяч га до 102 540 тысяч га, а к концу 1990-х годов - до 85 419 тысяч га. Среднегодовой сбор зерновых снизился со 104,3 миллионов тонн в 1986-90 до 87,9 миллионов тонн в 1991-95 и 65,5 миллионов тонн в 1996-2000. За тот же период сбор льноволокна упал более чем втрое - соответственно со 124 тысяч тонн до 72 тысяч тонн и 38 тысяч тонн, сахарной свёклы - с 33,2 миллионов тонн до 21,7 миллионов тонн и 14 миллионов тонн. Наступил спад в животноводческих отраслях (смотри таблицу).
Стабилизация и улучшение макроэкономического положения в начале 2000-х годов, а также привлечение значительных государственных и частных инвестиций в аграрный сектор позволили приостановить падение сельскохозяйственного производства. В ряде отраслей наметился некоторый рост (птицеводство, овцеводство, производство зерновых и технических культур, овощеводство). Однако последствия кризиса в сельском хозяйстве не преодолены в полной мере, не обеспечены достаточные условия для модернизации и дальнейшего прогресса агропромышленного комплекса страны. Решение этих проблем предполагает качественные изменения в социально-экономическом положении крестьянства как основного производителя сельхозпродукции.

В. Д. Назаров (до конца 17 века), В. А. Фёдоров (18 - середина 19 века), В. Г. Тюкавкин (1861-1917), Д. В. Ковалёв (1917-2008).
Лит.: Крестьянство в Византии. Каждан А. П. Деревня и город в Византии. IX-X вв. М., 1960; Хвостова К. В. Особенности аграрно-правовых отношений в поздней Византии (XIV-XV вв.). М., 1968; Литаврин Г. Г. Византийское общество и государство в X-XI вв. М., 1977; The economic history of Byzantium: from the seventh through to the fifteenth century. Wash., 2002. Vol. 2. Крестьянство в Западной Европе. В средние века и раннее Новое время. The agrarian history of England and Wales. L.; Camb., 1967-2000. Vol. 1-8; История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма. М., 1985-1986. Т. 1-3; Rösener W. Bauern im Mittelalter. Münch., 1985; Cortázar J. A. G. de. La sociedad rural en la España medieval. Μéх., 1988; Шкунаев С. В. Община и общество западных кельтов. М., 1989; Hilton R. Class conflict and the crisis of feudalism. 2nd ed. L., 1990; Comet G. Le paysan et son outil: France, VIII-XV siècle. Rome, 1992; Fossier R. Hommes et villages d’occident аu Moyen Âge. P., 1992; Габдрахманов П. Ш. Средневековые крестьяне и их семьи. М., 1996; Freedman Р. H. Images of the medieval peasant. Stanford, 1999; Bourin М., Durand R. Vivre аu village аu Moyen Age. Rennes, 2000; Филиппов И. С. Средиземноморская Франция в раннее средневековье. Проблема становления феодализма. М., 2000; Izquierdo Martín J. El rostro de la comunidad. Madrid, 2002; Moriceau J. M. Terres mouvantes: les campagnes franaises du féodalisme à la mondialisation, 1150-1850. P., 2002; Винокурова М. В. Мир английского манора: по земельным описям Ланкашира и Уилтшира второй половины XVI - начала XVII в. М., 2004; Modzelewski К. Barbarzyńska Europa. Warsz., 2004; Pour une anthropologie du pré1èvement seigneurial dans les campagnes médiévales, XI-XIV siècles: réalités et représentations paysannes. P., 2004; Forms of servitude in Northern and Central Europe: decline, resistance, and expansion. Turnhout, 2005; Wickham Ch. Framing the early Middle Ages: Europe and the Mediterranean 400-800. Oxf.; N. Y., 2005; Cortonesi A., Piccinni G. Medioevo delle campagne: rapporti di lavoro, política agraria, protesta contadina. Roma, 2006; Devroey J. P. Puissants et misérables: système social et monde paysan dans l’Europe des Francs (VI-XI siècles). Brux., 2006; Глебов А. Г. Англия в раннее средневековье. 2-е изд. СПб., 2007; Feller L. Paysans et seigneurs аu Moyen Âge: VIII-XV siècles. P., 2007; Les elites rurales dans l’Europe médiévale et moderne. Toulouse, 2007; The rural history of medieval European societies. Turnhout, 2007; La historia rural de las sociedades medievales europeas: tendencias y perspectivas. Valencia, 2008.
В Новое и Новейшее время. Лавровский В. М. Парламентские огораживания общинных земель в Англии конца XVIII - начала XIX вв. М., 1940; Серени Э. Развитие капитализма в итальянской деревне (1860-1900). М., 1951; Блок М. Характерные черты французской аграрной истории. М., 1957; Архангельский С. И. Крестьянские движения в Англии в 40-50-х гг. XVII в. М., 1960; Барг М. А. Народные низы в английской революции XVII в. М., 1967; Сказкин С. Д. Очерки по истории западноевропейского крестьянства в средние века. М., 1968; Фактор Г. Л. Технический переворот и структурные сдвиги в сельском хозяйстве Западной Европы. М., 1971; Люблинская А. Д. Французские крестьяне в XVI- XVIII вв. М., 1978; Бондарчук В. С. Итальянское крестьянство в XVIII в. М., 1980; Аграрно-крестьянский вопрос за рубежом в новое и новейшее время. Казань, 1983; Трунский Ю. Г. Французская деревня в XIX-XX вв. Тенденции развития. М., 1986; Aдo А. В. Крестьяне и Великая французская революция. М., 1987; Костюшко И. И. Прусская аграрная реформа. М., 1989; Винокурова М. В. Английское крестьянство в канун буржуазной революции середины XVII в. М., 1992; Митрофанов В. П. Крестьяне и государство в Англии второй половины XVI - первой трети XVII вв. Н. Новгород, 2000.
Крестьянство в Центральной и Восточной Европе. Разумовская Л. В. Очерки по истории польских крестьян. От древних времен до XV в. М.; Л., 1958; она же. Очерки по истории польских крестьян в XV-XVI вв. М., 1968; Рубцов Б. Т. Исследование по аграрной истории Чехии. XIV - начало XV в. М., 1963; Historia chłopów polskich / Pod redakcja S. Inglota. Warsz, 1970-1980. T. 1-3; Якубский B. A. Проблемы аграрной истории позднесредневековой Польши. Л., 1975; Фрейденберг М. М. Крестьянство на Балканах в XII-XVIII вв. Калинин, 1984; Костюшко И. И. Аграрные реформы в Австрии, Пруссии и России в период перехода от феодализма к капитализму. М., 1994; Свердлов М. Б. Становление феодализма в славянских странах. СПб., 1997.
Крестьянство на Востоке. Weulersse J. Paysans de Syrie et du Proche-Orient. P., 1946; King F. H. Farmers of forty centuries, or Permanent agriculture in China, Korea and Japan. [3rd ed.]. Emmaus, 1973; Смолин Г. Я. Антифеодальные восстания в Китае второй половины X - первой четверти XII в. М., 1974; Аграрные структуры стран Востока. Генезис, эволюция, социальные преобразования. М., 1977; Scott J. С. The moral economy of the peasant: rebellion and subsistance in Southeast Asia. New Haven; L., 1977; Алаев Л. Б. Сельская община в Северной Индии: основные этапы эволюции. М., 1981; Типы общественных отношений на востоке в средние века. М., 1982; Классы и сословия в докапиталистических обществах Азии. М., 1986; Krishnan Kutty G. Peasantry in India. New Delhi, 1986; Гордон А. В. Крестьянство Востока: исторический субъект, культурная традиция, социальная общность. М., 1989; Александров Ю. Г. Восточное крестьянство: актуальные проблемы изучения // Восток. 1995. №2; Beinin J. Workers and peasants in the modern middle East. Camb., 2001; Sharma R. S. Early Medieval. Indian society: a study in feudalisation. L., 2001.
Крестьянство в России. Семевский В. И. Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II. СПб., 1881-1901. Т. 1-2; он же. Крестьянский вопрос в России в XVIII и 1-й половине XIX в. СПб., 1888. Т. 1-2; Янсон Ю. Э. Опыт статистического исследования о крестьянских наделах и платежах. 2-е изд. СПб., 1881; Ходский Л. В. Земля и земледелец. Экономическое и статистическое исследование. СПб., 1891. Т. 1-2; Миклашевский И. И. К истории хозяйственного быта Московского государства. М., 1894. Ч. 1; Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства. СПб., 1897. Т. 1-2; Щербина Ф. А. Крестьянские бюджеты. Воронеж, 1900; Чупров А. И. Мелкое земледелие и его основные нужды. СПб., 1907; Кофод А. А. Русское землеустройство. СПб., 1914; Вайнштейн А. Л. Обложение и платежи крестьянства в довоенное и революционное время. М., 1924; Першин П. Н. Земельное устройство дореволюционной деревни. М.; Воронеж, 1928; Веселовский С. Б. Село и деревня в северо-восточной Руси XIV-XVI вв. М.; Л., 1936; Греков Б. Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в. 2-е изд. М., 1952-1954. Кн. 1-2; Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. М., 1956-1967. [Т. 1-3]; Рубинштейн Н. Л. Сельское хозяйство России во 2-й половине XVIII в. М., 1957; Кирьянов А. В. История земледелия Новгородской земли X-XV вв. М., 1959; Кочин Г. Е. Сельское хозяйство на Руси в период образования Русского централизованного государства. Конец ХIII - начало XVI в. М.; Л., 1965; Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. 2-е изд. М., 2006; Булыгин И. А. Положение крестьян и товарное производство в России. Вторая половина XVIII в. М., 1966; он же. Монастырские крестьяне России в первой четверти XVIII в. М., 1977; Тюкавкин В. Г. Сибирская деревня накануне Октября. Иркутск, 1966; он же. Великорусское крестьянство и Столыпинская аграрная реформа. М., 2001; Ковальченко И. Д. Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX в. М., 1967; Литвак Б. Г. Опыт статистического изучения крестьянского движения в России в XIX в. М., 1967; Ляпушкин И. И. Славяне Восточной Европы накануне образования древнерусского государства. Л., 1968; Преображенский А. А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI - начале XVIII в. М., 1972; Водарский Я. Е. Население России за 400 лет (XVI - начало XX в.). М., 1973; он же. Население России в конце XVII - начале XVIII в. М., 1977; Покровский Н. Н. Актовые источники по истории черносошного землевладения в России XIV - начала XVI в. Новосиб., 1973; Русские старожилы Сибири. М., 1973; Горский А. Д. Борьба крестьян за землю на Руси в XV - начале XVI в. М., 1974; Ковальченко И. Д., Милов Л. В. Всероссийский аграрный рынок. XVIII - начало XX в. М., 1974; Павлов П. Н. Промысловая колонизация Сибири в XVII в. Красноярск, 1974; Тихонов Ю. А. Помещичьи крестьяне в России. Феодальная рента в XVII - начале XVIII в. М., 1974; он же. Дворянская усадьба и крестьянский двор в России XVII-XVIII вв.: сосуществование и противостояние. М., 2005; Федоров В. А. Помещичьи крестьяне центрально-промышленного района России конца XVIII - первой половины XIX в. М., 1974; Дубровский С. М. Сельское хозяйство и крестьянство России в период империализма. М., 1975; Горюшкин Л. М. Аграрные отношения в Сибири периода империализма. Новосиб., 1976; Горская Н. А. Монастырские крестьяне Центральной России в XVII в. М., 1977; она же. Русская феодальная деревня в историографии XX в. М., 2006; Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: население, землепользование, хозяйство. М., 1977; он же. Советская доколхозная деревня: социальная структура и социальные отношения. М., 1979; Дружинин Н. М. Русская деревня на переломе. 1861-1880 гг. М., 1978; Копанев А. И. Крестьянство Русского Севера в XVI в. Л., 1978; он же. Крестьяне Русского Севера в XVII в. Л., 1984; Анфимов А. М. Крестьянское хозяйство Европейской России 1881-1904 гг. М., 1980; Дегтярев А. Я. Русская деревня в XV-XVII вв. Очерки истории сельского расселения. Л., 1980; Малявский А. Д. Крестьянское движение в России в 1917 г. М., 1981; Александров В. А. Обычное право крепостной деревни России, XVIII - начало XIX в. М., 1984; Древняя Русь. Город, замок, село. М., 1985; Ивина Л. И. Внутреннее освоение земель России XVI в. Л., 1985; Горланов Л. Р. Удельные крестьяне России. 1797-1865 гг. Смоленск, 1986; Колычева Е. И. Аграрный строй России XVI в. М., 1987; Heyпокоев В. И. Государственные повинности крестьян Европейской России в конце XVIII - начале XIX в. М., 1987; Шапиро А. Л. Русское крестьянство перед закрепощением (XIV-XVI вв.). Л., 1987; Ковальченко И. Д., Моисеенко Т. Л., Селунская Н. Б. Социально-экономический строй крестьянского хозяйства Европейской России в эпоху капитализма. М., 1988; Корелин А. П. Сельскохозяйственный кредит в России в конце XIX - начале XX в. М., 1988; Аграрная история Северо-Запада России XVII в. (Население, землевладение, землепользование). Л., 1989; Чаянов А. В. Крестьянское хозяйство. М., 1989; История крестьянства СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1990-1993. Т. 2-3; Громыко М. М. Мир русской деревни. М., 1991; Вербицкая О. М. Российское крестьянство: от Сталина к Хрущеву, середина 40-х - начало 60-х гг. М., 1992; Кирьянова Н. А. Сельскохозяйственные культуры и системы земледелия в лесной зоне Руси XI-XV вв. М., 1992; Попов В. П. Российская деревня после войны (июнь 1945 - март 1953). М., 1993; История крестьянства Северо-Запада России. Период феодализма. СПб., 1994; Сенчакова Л. Т. Приговоры и наказы российского крестьянства. 1905-1907 гг. По материалам центральных губерний: В 2 т. М., 1994; Архипова Л. М. Мелкая крестьянская промышленность Центрально-Нечерноземного района России в начале XX в. М., 1995; Бурдина О. Н. Крестьяне-дарственники в России. 1861-1907. М., 1996; Голоса крестьян: сельская Россия XX в. в крестьянских мемуарах. М., 1996; Денисова Л. H. Исчезающая деревня России: Нечерноземье в 1960-1980-е гг. М., 1996; она же. Судьба русской крестьянки в XX в.: брак, семья, быт. М., 2007; Мораховская О. Н. Крестьянский двор. История названий усадебных участков. М., 1996; Разумов Л. В. Расслоение крестьянства Центрально-промышленного района в конце XIX - начале XX в. М., 1996; Судьбы российского крестьянства. М., 1996; Швейковская Е. Н. Государство и крестьяне России. Поморье в XVII в. М., 1997; Яковлева В. П. Рынок и сельское хозяйство. Йошкар-Ола, 1997; Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939: Документы и материалы. М., 1998-2005. Т. 1-3; Кознова М. Е. XX век в социальной памяти российского крестьянства. М., 2000; Куренышев А. А. Крестьянство и его организации в первой трети XX в. М., 2000; Зажиточное крестьянство России в исторической ретроспективе. Вологда, 2001; Зеленин И. Е. Аграрная политика Н. С. Хрущева и сельское хозяйство. М., 2001; Осипова Т. В. Российское крестьянство в революции и гражданской войне. М., 2001; Динамика и темпы аграрного развития России: инфраструктура и рынок. М., 2002; Кабузан В. М. Крепостное население России в XVIII в. - 50-х гг. XIX в. (численность, размещение, этнический состав). СПб., 2002; Козлов С. А. Аграрные традиции и новации в дореформенной России (центрально-нечерноземные губернии). М., 2002; Собственность на землю в России: История и современность. М., 2002; Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX - начало XX вв.). М., 2003; Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). СПб., 2003. Т. 1; Пациорковский В. В. Сельская Россия: 1991-2001. М., 2003; Арсентьев В. М. Крестьянство в протоиндустриальных процессах в России первой половины XIX в. // Экономическая история: Ежегодник. 2003. М., 2004; Археология северно-русской деревни Χ-ΧΙΙΙ вв. М., 2007-2008. Т. 1-2; Иванов В. И. Монастыри и монастырские крестьяне Поморья в XVI-XVII вв. СПб., 2007; Черненко Д. А. Землевладение и хозяйственно-демографические процессы в Центральной России XVII-XVIII вв. Вологда, 2008; Милосердов В. В. Крестьянство России в глобальном мире. М., 2009.
Смотри также литературу при статьях Кооперация, Крестьянское самоуправление, Община.